Как-то в воскресенье, после боярского сидения, заехал Трубецкой, будто меда отпробовать. На двор въехал, как и водится у больших бояр, когда едут к меньшим, хоть это случается редко, прямо к самому крыльцу, шапку не ломал даже перед хозяйкой, а подождал, пока Соковнин придержит стремя, слез и пошел вразвалку к погребу. Меды отпробовал – не похвалил, не похаял, а спросил:
– А не помянуть ли тебе, Прокофей, слезы твои?
Соковнин поник головой. Он сразу догадался, зачем приехал Трубецкой.
– В Пыточной башне ты был горазд на слезы и на реченья, ажно Стахиту Пустобоярову слышно было, как ты божмя божился…
– Отдам… – выдохнул Соковнин. – До Покрова подержу, а потом – вот те крест! – Димитрей Тимофеевич, отдам девку тебе до конца сроку. Владей!
Случается так, что натянут неожиданно ненастья, задуют неуемные ветры и начнут причесывать лес, да так, что вершины деревьев к земле клонятся, рушатся стволы, выворачивая корни, принося несчастье всему живому, связавшему жизнь с деревом. Больше всего страдают те, кто не умеет еще жить самостоятельно. Потеряв гнездо, какой-нибудь слаболапый бельчонок, не досидевший дома всего-то неделю-другую, мечется по чуждой земной стихии, рискует сгинуть. Опасности они не чуют, зато, как никто другой, эти подростки чувствуют тоску по теплу родного гнезда, по знакомому скрипу соседнего сука, по отрадной путанице ветвей над гнездом, и – кто знает! – возможно, тот бельчонок, чудом выжив, став впоследствии сильным и опытным, будет всю жизнь искать свой родной, рухнувший вместе с деревом дом. Искать и не находить…
Алешка Виричев уподобился тому бельчонку, выброшенному из гнезда неумолимой судьбой. Очутившись нежданно-негаданно в огромном чужом городе, он еще верил, что вновь увидит свою старую березу над крышей их избенки, увидит Устюг Великий, снова пробежит вдоль гостиных рядов на набережной Сухоны. Он не знал, что старого Устюга уже не существует, как не существует у бельчонка родной сосны.
…Днем Алешка забывался, переполняясь впечатлениями от стольного града, а ночью, когда они с дедом приходили после ужина из людской избы и устраивались спать на полатях в конюшне, тоска по Устюгу, по друзьям, особенно по Семке Дежнёву – по этому вертопраху, как говорил дед, – по его выдумкам на путешествия – снова накидывалась на беззащитное сердце мальчишки горько-сладкой болью воспоминаний. Но все боли и все заботы отступали перед самой безысходной тревогой – тревогой за отца. Алешка особенно болезненно переживал каждый укол судьбы, каждое грубое слово, сказанное ему на Пожаре, на литейном дворе или брошенное стрельцами в Кремле.
Угловатая ласковость деда, теплым нимбом окружавшая мальчишку всю дорогу от Устюга, теперь понемногу рассеялась, и Алешка понимал, что это у него от забот. Старик все больше и больше замыкался в себе, обуянный часовым вымыслом. По ночам он ворочался, стонал, часто ругался во сне то с литейщиками из-за отливок, то со стрельцами из-за их назойливого любопытства. Алешка постепенно начинал проникаться заботами старого кузнеца и понемногу, шаг за шагом, втягивался в волшебное дело часомерья, ради которого сам царь вызвал деда в Москву.
На дворе Соковнина к деду и внуку установилось особое отношение. Сначала вся дворня встретила их настороженно. Допытывались, сколько царь жалует денег кузнецу, когда же вызнали, что жалованье еще на воде вилами писано, отринули отчуждение, открыто дивились смелости кузнеца, взявшегося за небывалое на Руси дело.
– Не сносить тебе, Ждан, головы… – вздыхал сочувственно старший конюх.
Сам Соковнин велел кормить кузнеца и его внука первыми, а на праздник Покрова обещал выдать обоим по заячьей шапке и по рукавицам. Окольничий хотел одного: чтобы часы пошли, и тогда царь при великой радости да большого успеха ради снимет с опального слуги своего запрет на стрижку. Прокофий Федорович с омерзением ощупывал длинные волосы, стыдясь в таком виде ежедневного боярского сидения в Кремле, тяжело переживая насмешки и там, и на улице, и даже ехидные взгляды на своем дворе. Зимой еще можно кое-как спрятать отросшие волосы под большую шапку, а придет лето, скроет ли легкая скуфья хамские волосищи, длиной с мужичьи? Нет… Вся надежда на царскую милость, когда посадский человек подвластного Соковнину города сделает часы.
Недели за три до Покрова, в холодное, изморозное утро, Виричевы проснулись от хозяйского крика. Соковнин ругался не с рундука, как это было заведено, а откуда-то снизу, чуть ли не от самых ворот.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
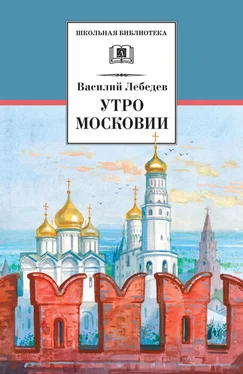



![Василий Лебедев - Золотое руно [Повести и рассказы]](/books/211190/vasilij-lebedev-zolotoe-runo-povesti-i-rasskazy-thumb.webp)



