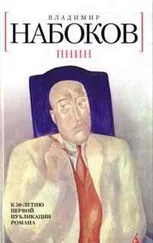Но этот ход рассуждения, хотя и кажется на первый взгляд приемлемо-утешительным, не может привести к объяснению ни одного из серьезных противоречий, о которых говорилось выше. Как может N. настаивать, что они с Пниным дважды виделись, перед их парижским столкновением, когда Пнин это отрицает категорически? С какой стати Пнин обвиняет N. в том, что он выдумал, будто они учились в одной гимназии и даже списывали друг у друга на экзаменах, когда N. ничего подобного не говорил? Каким образом N. – персонаж книги, играющий роль ее повествователя, – имеет доступ к детским воспоминаниям Пнина, к его грустным размышлениям о смерти в университетском парке, даже к его снам? Наконец, психологически необъяснимо, отчего N. имеет невероятное в описанных им самим обстоятельствах право «опубликовать» эту книгу о Пнине, о его частных скорбях и задушевных мыслях и обо всем прочем – притом книгу, в которой ее герой не умирает (в отличие от практически всех других книг Набокова). На это можно, конечно, возразить, что «Мой бедный Пнин» есть в такой же степени плод созидательного воображения N., в какой весь Пнин, заключающий в себе и повествователя, и его повесть, есть создание Набокова. Такой взгляд приводит к головокружению, к тошнотворному и очень, в сущности, унылому ощущению итоговой пустоты, когда «все стремится по спирали в туманную относительность», так что N. становится по отношению к Пнину тем же, чем Красный Король был для Алисы {30}.
Вопрос о достоверности повести N., а тем самым и о его добропорядочности, есть вопрос крайней важности для всякого, кто желает понять в этой книге ее глубинную тему, на которой держится вся постройка. Нельзя легко отделаться от мысли, что если Пнин в этом споре прав, то вся история его жизни, изложенная в книге на всем ее протяжении, должна быть подвергнута пересмотру.
Итак, мы видим, что главная и труднейшая загадка «Пнина» заключается в том, что герой и предмет повествования отказывается признать правдивым изложение своей жизни повествователем – которого продолжает считать своим другом. И чем внимательнее читаешь это изложение, тем больше странностей в нем замечаешь. Например, в эпизоде в остзейском имении обнаруживается больше внутренних несогласий, чем кажется на первый взгляд со слов N. В последовательной череде первых шести глав он касается этой темы дважды, в первой главе и в пятой. Вот Пнину перед лекцией мерещится среди слушателей одна из его «балтийских тетушек, в жемчугах и кружевах и белокуром парике, надевавшемся на все представления знаменитого в провинции актера Ходотова, которого она обожала издали, покуда окончательно не помешалась в рассудке». Однако в начале пятой главы N. описывает мимолетное воспоминание Пнина о «том неясном, мертвом дне, когда он, студент первого курса петроградского университета, приехал на маленькую станцию балтийского курорта…», воспоминание, которое к концу главы доводит его до одного из самых удручающих его полуобморочных состояний. Тут-то мы узнаем, что
Белочкины в это лето [1916 года] снимали дачу на том самом балтийском курорте, возле которого вдова генерала N. сдавала Пниным летний дом на краю своего огромного имения, болотистого и каменистого, где уединенную усадьбу окаймлял темный бор.
Не может ли эта генеральша быть одной из «балтийских тетушек» Пнина, упомянутой в начале романа? Нет, не может: в конце его она оказывается «скучной старой теткой» повествователя , которую его семья навещала «в ее странно уединенном имении недалеко от знаменитого курорта на Балтийском взморье». К тому же N. дальше извещает нас, что Пнин «смутно припомнил» эту его внучатую тетку. Мало того что N. как будто присваивает балтийскую тетушку Пнина, но он еще и делает ее поклонницей Анчарова, «провинциального актера-любителя», вместо «знаменитого в провинции» Ходотова из воспоминания Пнина {31}.
Или вот еще одна замечательная странность: у развязного служащего железнодорожной станции Витчерча жена вот-вот должна родить, и известие о ее предродовых схватках (неподтвердившееся) приводит в действие механизм событий, заканчивающихся странным как-будто сердечным приступом Пнина, с сопутствующим погружением в ясно-видимое прошлое. Служащего зовут в этой первой главе Боб Горн; в последней он неожиданно превращается в управляющего имением тетки N. Роберта Горна, «развеселого толстячка из Риги… бурно, но некстати аплодировавшего [игре Пнина в «Любовных похождениях» Шницлера].
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу