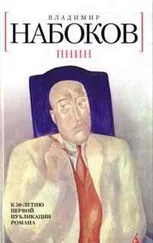После того как Пнин стукнул об колышек и все было кончено, Варвара пошла помогать Сюзанне готовить вечерний чай, а он тихо удалился и сел на скамейку под соснами. Какое-то крайне неприятное и пугающее ощущение в области сердца, несколько раз испытанное им в продолжение взрослой жизни, снова нашло на него. То была не боль и не сердцебиение, но скорее жутковатое чувство утопания и растворения в окружавшей его физической среде – в закате, в рыжих стволах дерев, в песке, в недвижном воздухе. Тем временем Роза Шполянская заметила, что Пнин сидит один и, воспользовавшись этим, подошла к нему («сидите, сидите!») и присела рядом.
– Году в шестнадцатом-семнадцатом, – сказала она, – вам, может быть, доводилось слышать мою девичью фамилью – Геллер – от ваших близких друзей.
– Нет, не помню, – сказал Пнин.
– Ну, неважно. Мы, кажется, никогда и не встречались. Но вы хорошо знали Гришу и Миру Белочкиных, моих двоюродных. Они постоянно говорили о вас. Он теперь, кажется, живет в Швеции – и вы, конечно, слышали об ужасной смерти его несчастной сестры…
– Да-да, я знаю, – сказал Пнин.
– Ее муж, – сказала Шполянская, – был очаровательный человек. Мы с Самуил Львовичем очень близко знали его и его первую жену, Светлану Черток, пианистку. Он был интернирован нацистами отдельно от Миры и умер в том же концентрационном лагере, что мой старший брат Миша. Вы ведь не знали Мишу? Когда-то он тоже был влюблен в Миру.
– Тшай готофф, – крикнула Сюзанна с веранды на своем забавном рудиментарном русском языке. – Тимофей! Розочка! Тшай!
Пнин сказал Шполянской, что тоже скоро придет, и когда она ушла, остался сидеть в ранних сумерках аллеи, сложа руки на крокетном молотке, который все еще держал.
Две керосиновые лампы уютно освещали террасу дачи. Доктора Павла Антоновича Пнина, отца Тимофея, окулиста, и доктора Якова Григорьевича Белочкина, отца Миры, педиатра, нельзя было оторвать от шахматной партии в углу веранды, так что г-жа Белочкина велела служанке подать им туда – на особенном японском столике рядом с тем, за которым они играли, – стаканы с их чаем в серебряных подстаканниках, простоквашу с черным хлебом, землянику и другой культивированный ее вид, клубнику [37], и лучистые золотистые варенья, и разное печенье, вафли, крендельки, сухарики – вместо того чтобы звать двух увлеченных игрою врачей за главный стол в другом конце террасы, где сидели остальные члены семьи и гости, одни ясно различимые, другие расплывающиеся в светящемся тумане.
Слепая рука д-ра Белочкина взяла крендель; зрячая рука д-ра Пнина взяла ладью. Д-р Белочкин, жуя, уставился на отверзшееся зияние в своих рядах; д-р Пнин обмакнул абстрактный сухарик в зиявшее отверстие своего стакана.
Дом, который в то лето снимали Белочкины, был на том же самом балтийском курорте, рядом с которым вдова генерала N. сдавала Пниным дачку на окраине своего обширного поместья, болотистого и запущенного, с темным лесом, теснившим заброшенную усадьбу. Тимофей Пнин опять был неуклюжий, застенчивый, упрямый восемнадцатилетний юноша, ожидающий Миру в сумраке, – и невзирая на то, что логика мысли вставила в керосиновые лампы электрические и перетасовала людей, превратив их в пожилых эмигрантов, и безнадежно, надежно, навеки обнесла проволочной сеткой освещенную веранду, мой бедный Пнин с ясностью галлюцинации увидел Миру, выскальзывающую оттуда в сад и идущую к нему меж высоких душистых табаков, тусклая белизна которых сливалась в полумраке с белизною ее платья. Это чувство каким-то образом соответствовало ощущению растворения и расширения в его груди. Он тихо отложил молоток и чтобы развеять тоску пошел прочь от дома через безмолвную сосновую рощу. Из запаркованного возле сарая с садовыми инструментами автомобиля, в котором, по-видимому, сидело по крайней мере двое детей приехавших сюда друзей Пнина, доносилось монотонное журчанье радиомузыки.
– Джаз, джаз, эта молодежь минуты не может обойтись без джаза, – проворчал Пнин себе под нос и свернул на тропинку, которая вела к лесу и реке. Ему вспомнились увлечения своей и Мириной юности, любительские спектакли, цыганские романсы, ее страсть фотографировать. Где они теперь, эти ее художественные снимки – собаки, облака, апрельская прогалина с тенями берез на сахарно-мокром снегу, солдаты, позирующие на крыше товарного вагона, закатный край неба, рука, держащая книгу? Ему вспомнилось их последнее свидание на набережной Невы, и слезы, и звезды, и теплый, ярко-розовый шолк подкладки ее каракулевой муфты. Гражданская война разлучила их – история расстроила их помолвку. Тимофей пробрался на юг, где он недолго был в деникинской армии, а семья Миры бежала от большевиков в Швецию, потом осела в Германии, где она со временем вышла замуж за меховщика родом из России. Как-то в начале тридцатых годов Пнин, в ту пору уже женатый, приехал с женою в Берлин, где ей хотелось побывать на съезде психотерапевтов, и однажды вечером, в русском ресторане на Курфюрстендаме, он опять увидел Миру. Они обменялись несколькими словами, она улыбнулась ему, как бывало, из-под темных бровей, застенчиво и лукаво, и контур ее выпуклых скул, и ее удлиненные глаза, и тонкость ее рук и щиколок были все те же, были безсмертны, а потом она вернулась к мужу, который ушел в гардероб за пальто, и тем все и кончилось – но болезненный укол нежности не проходил, как дрожащий очерк стихов, которые знаешь, что знаешь, но не можешь вспомнить.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу