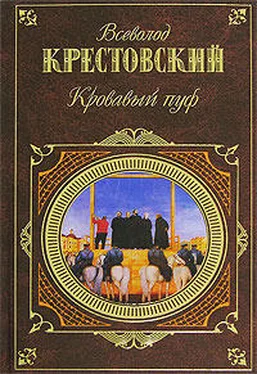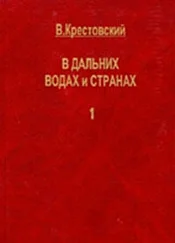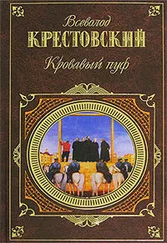Раз как-то зашел он к майору. Анна Петровна, встретив его весьма сухим поклоном, тотчас же удалилась из комнаты. Зато майор обрадовался от чистого сердца.
– Ну, голубчик мой! Наконец-то! – протянул он ему обе руки. – Пойдем в мою келью, потолкуем-ка!.. Хоть душу отведешь с человеком!
Устинов глянул на старика и заметил, что он видимо изменился за последнее время: сивая щетинка на бороде уже несколько дней не брита, чего прежде никогда не случалось, лицо слегка осунулось и похирело, в глазах порою на мгновение мелькало легкою тенью нечто похожее на глухую затаенную кручину. При взгляде на Петра Петровича Устинову стало еще грустнее.
– Ну, что, как живете-можете? – начал он, лишь бы отогнать немного свое тягостное чувство.
– Да что, голубчик, скверно старикам стало жить на свете, скверно! – с глубоким, сокрушенным вздохом покачал головой Лубянский. – Прежде людьми пренебрегали за какое качество дурное, за порок какой там, что ли, а ныне за одну только старость пренебрегать начали. Иль я уж и в самом деле из ума выжил, или что, и сам не понимаю; а только вдруг, на шестом десятке, под сюркуп полицейский попал! Чуть что не каждый день вдруг квартальный стал шататься да житье-бытье мое поверять! «Вы, говорит, за неблагонамеренность под призор отданы, и я должен за поведением вашим наблюдать!» Легко ли это, я вас спрашиваю!.. Издеваются они надо мной, что ли? Да кто же дал им ныне это право такое над честным солдатом издеваться?.. До чего дожили, прости, Господи! Уж я этому квартальному, чтобы не часто шатался, грешный человек, дал по секрету трешницу. Школу отняли, самого оплевали… А слыхали вы, батенька, что со школой-то сталося? Слыхали? Вы не бываете там больше?
– Мне Подвиляньский прислал письмо, с извещением, что я могу прекратить мои дальнейшие занятия там, – сказал Устинов.
– Я так и знал! Так и знал я это! – махнул старик. – А с отцом-то Сидором что сделали? Не слыхали-с?
– Признаюсь, не слыхал еще.
– Ну, уж это чистое невежество! – развел майор руками. – Приходит он это в школу, а навстречу ему господин Полояров: «Вы, говорит, зачем сюда?» – «Как зачем! Я закон Божий читаю». – «Теперь, говорит, я вместо вас закон Божий читаю, а вы, говорит, ступайте прихожан своих эксплуатируйте (так и сказал! Это самое слово!). Все вы, говорит, за зловредность направления отсюда уволены!» Это что ж такая за наглость-то наконец, я вас спрашиваю! До чего же это дойдет у них?!. Отец Сидор хочет владыке жаловаться, – да и в самом деле, ведь уж тут просто житья нет никакого! Нагнал это туда новый-то распорядитель учителей хороших: все эти Полояровы, да Анцыфровы, да Лидиньки разные… поди-ка, чай, хорошему научат!.. Уж они мне, батюшка, – вот они все где сидят-то мне! – указал старик на свое горло. – Ведь уж я терпелив, ну да и мое терпение лопнет скоро!
– Полояров-то бывает у вас? – спросил Устинов.
– Уж не говорите лучше! – с негодованием отплюнулся Петр Петрович, – не знаю, как избавиться! И что это такое с Нюточкой сделалось, просто не понимаю! Не далее как год назад ведь это прелесть что за девочка была – сами, чай, помните! – а ныне (старик с боязливою осторожностью покосился на дверь и значительно понизил голос), ныне – Бог ее знает! какая-то нервная, раздражительная стала. Строптивость у нее какая-то вдруг… Что ни скажешь, ни сделаешь – все это не так, все это не по ней… одного только этого… его-то – только его и слушает. Начнешь говорить ей, – сейчас в раздражение: «вы, говорит, меня стесняете, лишаете меня свободы!» Ты ей резоны представляешь, а она сейчас: – «произвол! насилие!.. Это, говорит, деспотизм родительской власти»… Господи боже мой! Андрей Павлыч! (голос старика дрогнул от волнения) сами вы знаете – ну, стесняю ли я чем ее? Ну, могу ли я стеснять? Я… я души в ней не чаю, а она… деспот… деспотизм. Да что ж это такое, ей-Богу!..
Старик примолк и огорченно поник головою.
– Теперь хоть это: хорошо ли это с ее стороны? – продолжал он через минуту. – Отца осрамили, отцу учить запретили, под надзор полиции отдали, школу отняли, а она в этой школе продолжает учить как ни в чем не бывало. С этими-то… с этими-то вместе учит, в одной компании… с врагами!.. Ведь они враги-с делу-то! Ну, прилично ли это? Отчего же Татьяна Николаевна сразу перестала, сама перестала, чуть только проведала про всю эту компанию?.. И я же еще стесняю ее! Я деспотствую!.. Эх, голубчик мой, горько мне все это! горько!.. И откуда на нас вся эта напасть? – продолжал старик, ходючи по комнате и закурив свою коротенькую трубочку. – Отчего же прежде у нас на Руси ничего такого не было? Иль уж и в самом деле все мы прежде до такой степени были глупы, и слепы, и подлы, что на нас теперь и плюнуть не стоит порядочному человеку, или что – я уже и не понимаю. Думаешь-думаешь так-то вот себе ночью (нынче ночами-то что-то плохо спится мне). Только нет, думаешь себе, отчего же подлы? Отчего же глупы да пошлы? ведь и между нами были же и умные, и честные, и образованные люди – да вот хоть взять теперь нам старика Алексея Петровича Ермолова или, например, покойник Воронцов Михайло Семенович, – ведь это все какие люди-то! справедливые, твердые, самостоятельность-то какая! Ну, значит, были же и между нами доблестные граждане; умели же и мы любить свое отечество и жили честно – не все же глупцы, да воры, да взяточники! За что же теперь-то все мы огулом охаяны да оплеваны? Ведь это обидно! Ведь и сами же они будут стариками – значит, и их заплюют? Да отчего же мы-то на своих отцов не плевали, отчего же мы любили и чтили заслуги их?.. Отчего ж это так вдруг все перевернулось у нас? Откуда это, я вас спрашиваю? И вот все это, голубчик мой, мучают меня все эти неотвязные мысли проклятые, и никакого я себе ответа найти не могу!.. Эхе-хе! тяжело стало старикам на свете! – грустно заключил он, выколачивая в черепок золу из своей носогрейки.
Читать дальше