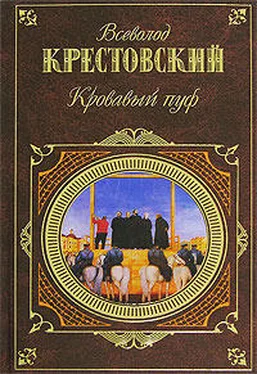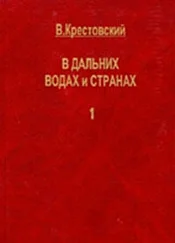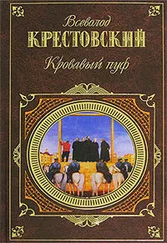Не спал еще и Хвалынцев. Все ощущения и впечатления дня навели на него какую-то темную тоску и лихорадочную нервность. Он не знал, зачем его арестовали и потом словно бы оставили и позабыли про него, не знал, что делать завтра или, лучше сказать, что с ним намерены делать, а между тем дела требовали его в Славнобубенск. Это глупое, фальшивое положение и эта неизвестность нагоняли на него досаду и хандру. Он, лежа на оттоманке, по другую сторону которой безмятежно храпел monsieur [11] Господин (фр.).
Корытников, жег в темноте папиросу за папиросой. Тоскливая досада и неулегшиеся впечатления давешних сцен далеко отгоняли сон его.
* * *
А между тем в глубокой темноте, около солдатского бивуака, потайно, незаметно и в высшей степени осторожно шныряла какая-то неведомая личность, которую трудно было разглядеть в густом и мглистом мраке; но зато часовые и дежурные легко могли принять ее за какого-нибудь своего же проснувшегося солдатика, тем более что неведомая личность эта была одета во что-то не то вроде крестьянской, не то вроде солдатской сермяги. В течение получаса этот шныряющий человек, то там, то здесь, в разных концах бивуака, осторожно подбрасывал какие-то свернутые бумаги, из которых иные были даже запечатаны в особые пакеты.
* * *
Наутро началась расправа с мятежниками. Судили их на месте, в порядке быстром, то есть безусловно административном и притом – военном. Солдат, в награду за неудобно проведенную ночь, приказано было, по совету Пшецыньского, расставить по крестьянским избам, в виде экзекуции, с полным правом для каждого воина требовать от своих хозяев всего, чего захочет, относительно пищи и прочих удобств житейских. Предварительно, впрочем, по совету все того же Пшецыньского, не забыли поблагодарить батальон за его молодецкое поведение, но при этом начальство осталось несколько недовольно тем обстоятельством, что ответное «рады стараться» пробежало по фронту как-то вяло, раздумчиво и словно бы неохотно. Неудовольство начальства еще более усилилось, когда было доложено ему о приключениях, случившихся в батальоне в течение этой ночи: один солдатик найден в овине повесившимся на своих собственных подтяжках, а двое дезертировали неизвестно куда, несмотря на бдительность казачьих патрулей.
Однако время не терпело проволочек; надо было позаботиться об окончательном укрощении и умиротворении взволнованной местности, а потому надлежало произвести немедленный суд и при этом явить примеры внушительной строгости.
Крестьяне опять были собраны на площади, но на этот раз не добровольно. Тут же стояло около тридцати обывательских подвод и несколько возов розог: часть батальона еще ранним утром отряжена была в лес нарезать приличное количество прутьев. Сек батальонный командир под руководством исправника и станового. Приговорены были к наказанию и к ссылке в Сибирь несколько десятков народу, вместе с зачинщиками, в числе которых были два старика, подносившие хлеб-соль, молодой парень, вытащенный вчера становым в качестве зачинщика, и тот десяток мужиков, которые добровольно вышли вперед переговорщиками от мира.
Между тем раненым надо было подать хоть какую-нибудь первую помощь. Начальство, отправляясь сюда, не предполагало, что придется стрелять, и потому не позаботилось о докторе, за которым Пшецыньский догадался послать только ранним утром, когда трое из раненых уже отдали Богу душу. Разговор об этом происходил в присутствии Хвалынцева. Занимаясь естественными науками, он неоднократно con amore посещал клинику, видел многие перевязки и вообще имел об этом деле некоторое маленькое понятие. Поэтому, на время до прибытия медика, он предложил исправнику свои посильные услуги. Этот последний, имея в виду трех уже умерших и нескольких человек умирающих, посоветовался с полковником, а тот доложил выше – и предложение Хвалынцева великодушно было принято, только с условием, чтобы все это осталось под секретом. Вместе с деревенским священником принялся он кое-как ухаживать за ранеными.
А наутро наехало в Снежки несколько окружных помещиков, бурмистров, управляющих – все за тем, чтобы поразведать о вчерашних происшествиях. Приехала, между прочим, и пожилая вдова помещица, которая во всем околотке известна была под именем Перепетуи Максимовны. Фамилии ей как-то не полагалось, а мужики, сами по себе, издавна уже окрестили ее «Драчихой», по причине сорокалетней слабости ее к ручной расправе. Становой сообщил ей, что в числе раненых есть один из ее Драчихиной деревни, Драчиха непременно пожелала видеть «мятежника».
Читать дальше