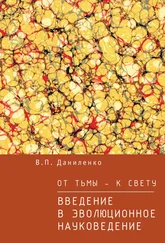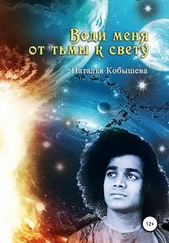– Ну, и что же? Ты, конечно, вмешался? – спросил Сенека.
– Нет, с какой стати! Я только посмеялся. Какое мне дело – мне, римлянину и философу, если горсть греков-тунеядцев и угостит синяками большее или меньшее число евреев. Но вот лицо этого Павла не давало мне почему-то покоя. Мне говорили, будто свое воспитание он получил в Тарсе и что это человек образованный. Я все порывался было повидаться с ним и побеседовать и разведал даже, что он нашел себе убежище где-то на окраине города, у одного шатерного мастера еврея Аквила, изгнанного из Рима в силу мудрого эдикта Клавдия. Но ликтор, которому я дал поручение отыскать его, не мог или же просто почему-либо не хотел найти его. Впрочем, эти христиане вообще люди очень скрытные; хотя в конце концов, оно, может быть, было и лучше не унижаться до каких-либо разговоров с главой секты, всеми презираемой за ее чудовищную развращенность, в сравнении с которой, если верить молве, древние вакханалии, запрещенные лет уже двести тому назад, были ничто.
– Да и я тоже кое-что слыхал об этих христианах, – сказал Сенека. – Наши рабы, вероятно, знают об этих людях гораздо больше, чем мы. Однако беспокоить императора каким-либо упоминанием о них, разве они вздумают устроить бунт в Риме, я пока не стану.
В эту минуту Сенеке доложили о приходе другого его брата, сенатора Марка Эннеа Мелы с сыном Луканом.
– Проси сюда, – сказал Сенека рабу и, встав, пошел навстречу брату. – А вот и ты, брат мой, мой Лукан. Ну нравится ли вам ваше пребывание в Риме? Не лучше ли было бы для всех нас, если б мы остались в родной нашей Кордове?
– Не знаю уж, так ли это, – сказал Мела. – Что же, собственно, до меня, то я должен сказать, что считаю несравненно более приятным для себя быть сенатором в Риме и прокуратором императорской вотчины, нежели управлять своим собственным родовым поместьем в Испании.
– А ты какого мнения, наш поэт? – спросил Сенека, обращаясь к молодому испанцу, стройному и красивому семнадцатилетнему юноше, первые стихотворения которого уже успели заслужить сочувственное внимание критиков.
– Да я того мнения, что если человеку стоит жить из-за того, чтобы наслаждаться счастьем в качестве частого гостя за столом Нерона и слушать, как он читает свои плохие стишонки, то в Риме, конечно, лучше, чем в Кордове.
– Стихи его вовсе уж не так плохи, – заметил Сенека.
– О, конечно, они великолепны! – с напускным восторгом воскликнул Лукан. – Сколько мысли! Как они полны самой потрясающей действительности! Сколько дивных созвучий! Словом, они плавают и тают во рту, как говорит мой друг Персий.
– Однако ты не можешь не согласиться, что император мог бы найти себе занятие похуже невинного стихотворства и пения.
– Разумеется, но императору было бы приличнее посвящать свое время делу более существенной важности, – возразил молодой человек. – К тому же с ним стою я на почве весьма опасной и, признаюсь, был бы очень рад, если б ему никогда не приходила фантазия вызвать меня из Афин, и если б он не величал меня своим другом. Откровенно говоря, я не люблю его. Да и он тоже меня не особенно долюбливает, и сколько бы он ни старался скрыть своей зависти ко мне, она проглядывает при всяком случае; то же самое и в моих похвалах, сколько бы ни восторгался я каждой строчкой читаемого им собственного стихотворения, он чувствует неискренность и фальшь.
– Смотри, будь осторожен, Лукан; берегись! Характер Нерона изменяется быстро к худшему. Мне пока еще удается сдерживать в нем внутреннего лютого зверя, но раз этот зверь хлебнет крови… Плохие, брат, шутки, когда голова лежит в пасти дикого зверя.
– Однако ж ты сам, мне кажется, не так давно еще говорил, что по своему милосердию молодой Нерон не имеет себе соперника ни в одном из своих предшественников, – заметил Галлио.
– Правда, я говорил это; но не нужно забывать, что все же он сын своего отца, – отвечал Сенека, которого неприятно покоробило такое напоминание. – А кому же из нас не известно, до какого зверства доходил в своей жестокости Домиций Агенобарб! Не помню, рассказывал ли я вам когда-нибудь, что в ночь после, как получил я назначение быть его воспитателем, мне приснилось, что мой воспитанник не Нерон, а Калигула.
Наступило тяжелое молчание. Все задумались. Тогда Лукан, чтобы дать другое направление разговору, обратился к Сенеке с вопросом:
– Скажи мне, дядя, веришь ли ты в халдеев и их гороскопы?
– Нет, не верю, – ответил философ. – По-моему, звезда судьбы каждого человека в его сердце.
Читать дальше
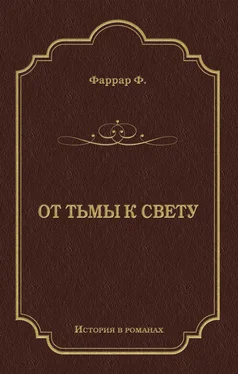





![Алиса Минаева - Избранница тьмы и света [СИ]](/books/389474/alisa-minaeva-izbrannica-tmy-i-sveta-si-thumb.webp)