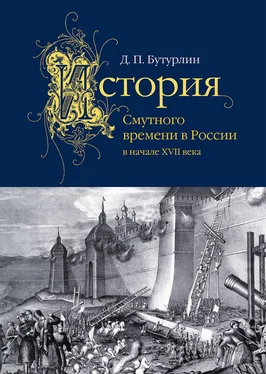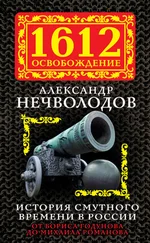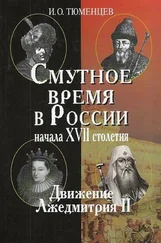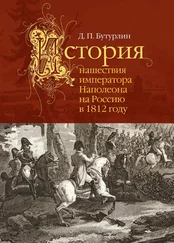1 ...8 9 10 12 13 14 ...37 Все ужасы, уже претерпенные государством, были, так сказать, только преддверием готовящейся для него настоящей беды. Около 1600 года 40пронеслась в Москве молва, что царевич Димитрий, которого полагали убиенным в Угличе, находится в живых. Хотя одно имя невинной жертвы должно было казаться грозным для ее убийцы, но смерть царевича была действием столь явным, столь достоверным, что Борис мало тревожился слухом, коего неосновательность была очевидна. Однако он старался узнать, что могло подать повод к нелепой басне, и еще более успокоился, когда добрался до презрительного источника оной. Все казалось только делом бессмысленного суесловия молодого монаха, жившего у патриарха.
Сей юноша, предназначенный изумлять потомков дивными похождениями своими и служить орудием Провидения для казни преступного Бориса, был сын бедного сына боярского города Галича и назывался Юрием Отрепьевым 41. Оставшись после смерти отца своего почти без всякого приюта, он постригся на пятнадцатом году и принял имя Григория. Но иноческий клобук не предохранил буйной головы его от порыва пламенных страстей светских. Несколько времени скитался он по разным обителям и, наконец, основался в Чудове монастыре, в келье у деда своего Замятни-Отрепьева, который давно уже там монашествовал. Будучи одарен природой способностями необыкновенными, умом пылким и предприимчивым и отважностью, более свойственной воину, чем монаху, он вместе с тем был легкомысленным и заносчивым до безрассудности. С самого младенчества своего с успехом занимаясь книжным делом, он выучился не только читать и чисто писать, но даже сочинял каноны святым лучше старых грамотеев. Такие, по тогдашнему времени чрезвычайные, познания обратили на него внимание патриарха, который посвятил его в дьяконы и взял к себе для списывания книг. Тут имел он случай познакомиться с людьми, хорошо знавшими все обстоятельства, до царского дома относящиеся. Через них он мог узнать, что, по довольно обыкновенной игре природы, царевич Димитрий имел некоторые одинаковые с ним признаки, а именно, что у царевича, как и у него, были бородавки на лице и одна рука короче другой 42. Мысль дерзкая, по первому взгляду вовсе сумасбродная, родилась в душе его. Он возмечтал, что может выдать себя за убиенного царевича и с помощью одного самозванства низложить Бориса, располагавшего еще всеми силами обширного государства. В упоении непостижимой самонадеянности он начал оглашать со свойственной ему ветреностью свои затеи и часто в разговорах своих с чудовскими монахами уверял их, что будет царем на Москве. Иноки, не воображая, чтобы значение сих дерзких слов заключало в себе что-либо важнее шутки, впрочем, весьма непристойной, довольствовались тем, что смеялись над хвастуном и плевали ему в глаза. Но ростовский митрополит Иона, коему сии речи переданы были, судил о них иначе. Он стал примечать за поступками наглого дьякона и убедился, что в душе его кроются опасные для общего спокойствия замыслы. Сперва митрополит счел долгом своим предупредить о сем патриарха; но первосвятитель, коему Григорий нравился, не хотел верить, чтобы он мог зазнаться до такой степени, и в самой нелепости возводимого на него преступления находил доказательство неосновательности извета. Тогда Иона решился о всех замеченных им обстоятельствах донести самому царю, который, соображая оные с носившимися уже слухами, хотя также не почел их делом, заслуживавшим большого внимания, однако приказал дьяку Смирному-Васильеву послать враля-дьякона в Соловецкую пустынь под крепкое начало. Васильев открылся о сем повелении дьяку же Семену Ефимьеву, который был родственником Отрепьевых и потому просил Васильева не спешить исполнением царской воли, дабы дать Григорию время приготовиться к дальнему пути. Васильев, не воображая, чтобы молодой монах мог быть важным преступником, не только согласился удовлетворить желанию товарища своего, но даже впоследствии, среди других забот, и совершенно забыл о данном ему приказании. Пользуясь его беспечностью, Григорий ушел из Москвы и укрылся сперва в монастыре Николы на Угреши 43, но не посмел остаться в столь близком расстоянии от столицы и удалился в город Галич, в Железноборский монастырь, откуда перешел в Муром, в Борисоглебскую обитель. Принимать таким образом в монастырях странствующих монахов нисколько противно не было гостеприимным обычаям того времени 44. К тому же Григорий более других еще мог снискивать благосклонность незнакомых ему людей, потому что был действительно красноречив и имел наружность хоть и не красивую, но довольно привлекательную. Борисоглебский строитель дал ему лошадь и отпустил его обратно в Москву.
Читать дальше