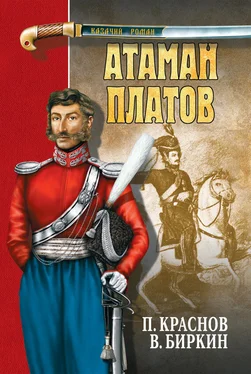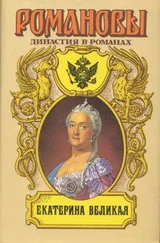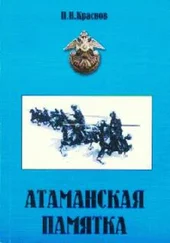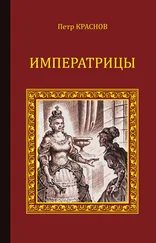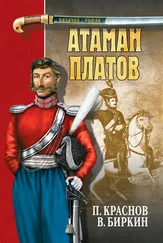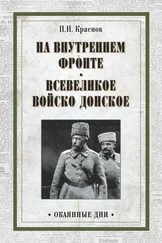Но струна была слишком натянута эти три дня Лейпцигского боя, – ее нужно было спустить, иначе говоря: кавалерия теряла лошадей, пехота страдала от голода, а главное, от недостатка обуви. Самая важная часть армии, ее середина расстроилась и громче всех требовала исправления. Как год тому назад казаки прогнали великую армию за Неман и дали последний выстрел по отступающим французам, так и теперь последний выстрел раздался на берегах Рейна из казачьего ружья.
Широко разместились казаки по деревням, заняли они длинную линию, и началась скука зимней стоянки. Коньков в карты не играл, ухаживать за чистенькими и беленькими пасторскими дочками не считал себя вправе, общества подходящего поблизости не имел, мемуаров не писал, а потому томился и тосковал до крайности.
На его глазах умирала природа, умирала не по-родному, не по-русски, с вьюгами и глубокими снежными заносами, с укатанными дорогами, с санями и тройками, с быстрым бегом лошадей и звоном бубенцов.
Морозы сменялись оттепелями, и солнце грело не по-зимнему. Рейн и не думал замерзать. Он потемнел, набух, но так же катил свои синие волны, слегка всплескивая, волнуясь.
Смотреть, как казаки играют в жучка, чеботаря и в крячку, кидать свинчатку по бараньим ножкам айданчиками и обращать пыльную улицу деревни Бейерн в улицу Вешенской станицы – скоро надоело. Надоели и казачьи песни, а пуще всего надоело стоять без дела после стольких боев и кровопролитнейших сражений. И тянуло Конькова поседлать Занетто и махнуть в тот край, где стоят люди в белых лосинах, где по-иному говорят, где мягче нравы, где птицы веселее поют. Но боялся он предпринять на свой страх далекий поиск, боялся, что схватит его опять головная боль и все в нем расстроится.
Но пришло письмо от Ольги с гвардейским подпрапорщиком, третью неделю разыскивавшее его, прочитал он ласковые слова, забилось сердце, и решил он посмотреть что «там», за роковой чертой, и как поживает неприятель у себя дома.
И вот на заре светлого, теплого февральского дня Коньков переправился на барке на ту сторону и поехал куда глаза глядят. Его сразу охватило волнение, как будто он совершал что-то ужасное, святотатственное. Но мирная природа скоро успокоила его. Солнце так приятно грело, кругом весело чирикали птицы, Занетто подавался плавными движениями, вся природа радостно улыбалась, и забылась скука, страх, шибко забилось сердце, и захотелось вперед и вперед…
Но то, чего он опасался, то и случилось. Сначала заныла больная грудь, больно и поспешно закололо в легких, потом потемнело, померкло солнце, и предметы потеряли очертания. Коньков охватил крепче лошадь ногами и забылся в полудремоте от слабости, едва разбирая грязную дорогу. Наконец повод выпал из его рук, он отдался весь на волю лошади. Обыкновенно Занетто поворачивал назад и бережно отвозил хозяина домой, но теперь случилась с ним перемена.
Пускай Шопенгауер уверяет, что у животных нет памяти, что они живут только настоящим, не имея ни прошлого, ни будущего…
Почтенный немецкий философ, наблюдая свиней и других приятных существ, забыл лошадь. А кому неизвестно, что пять, десять лет не могут вытравить из памяти лошади тех мест, где ее ласкали или наказывали?
В голове Занетто шла сильная мозговая работа, работа мысли. Надо было только взглянуть на золотистые ушки с черными окрайками, что все время ходили, то слушая направо, то налево, то опускаясь, то настораживаясь, надо было увидать нервно раздувшиеся ноздри, чтобы понять, что случилось что-то важное, что требует точного знания. А случилось действительно то весьма важное событие, которого Занетто давно ожидал, быть может, не менее страстно, чем его владелец: он вернулся домой. Он всегда чувствовал и понимал своим лошадиным умом, что ночлеги на морозе, холода и вьюги, ночлеги по дырявым сараям и даже в немецких хлевах не есть нормальное явление, а только нечто временное, а что скоро опять вернется старая каменная конюшня, седой Франц будет ему носить сено и овес, а Ричард чистить его крутые бока. Он ожидал, чтобы его опять ласкали по-старому, когда его целовали в серую морду и кормили сластями и когда он не слыхал грубых: «Но, балуй», но ему говорили мягко, на звучном языке…
Он знал, что это будет, ждал этого и то надеялся, то терял надежду, и тогда со свойственной всем лошадям покорностью мирился со своею судьбой. Его товарищи, большею частью грубые и косматые, мечтали о беспредельных полях, о снегах, об удовольствиях стоять на базу за ветром, когда вьюга метет, о сладости опьяняющего овса – они грубо ржали, когда на них навешивали торбы, и дрались между собой из-за клочка сена. Их били особыми хлыстами, чтобы они скакали веселее, но они и тогда обманывали своих хозяев и шли не так скоро, как могли. Их по два, по три дня не расседлывали и не кормили, поили какой-то бурдой, а то просто давали им снегу, и они только вздыхали… Занетто был выше их. Хотя в строю шел рядом с ними, – что делать! – он понимал службу, но разговаривать с ними, водить дружбу он не мог, и стоило какому-нибудь казачьему мохначу приблизиться к Занетто с самым дружелюбным намерением почесать себе бок о его грудь, как Занетто закладывал уши и скалил свои белые молодые зубы.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу