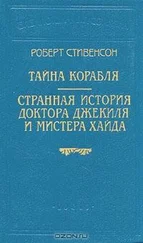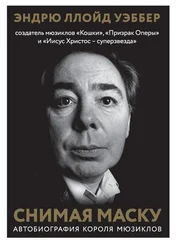– Что он такое рассказывал о том, что кого-то спустил с лестницы? – спросил меня Пинкертон, белый, как св. Стефан.
– Ну, да, – ответил я, – это он рассказывал о своей отвергнутой любовнице и дальше говорил о том, что швырял в нее камнями. Я думаю, что не это ли подало ему мысль насчет сюжета его картины. Он говорил, в виде оправдания, о том, что она была так стара, что годилась ему в матери.
У Пинкертона вырвалось что-то вроде рыдания или всхлипывания.
– Скажите ему, – с трудом выговорил он, – я сам худо говорю по-французски, хотя и понимаю; я ведь худо воспитан… скажите ему, что я размозжу ему башку!..
– Ради Бога, не делайте ничего подобного! – взмолился я. – Они ведь все равно ничего не понимают в этих вещах!
И я попытался увести его.
– Нет, сначала вы скажите ему, что мы о нем думаем, – возражал он, – пусть он знает, каким он выглядит в глазах благомыслящего американца.
– Предоставьте это мне, – сказал я, выпроваживая Пинкертона за дверь.
– Qu'est-ce qu'il a? [12] Что с ним?
– спросил студент.
– Monsieur se sent mal au coeur d'avoir trop regardé votre croûte [13] Этот господин почувствовал резь в животе от того, что слишком засмотрелся на вашу мазню.
– ответил я и поспешил выбежать вслед за Пинкертоном.
– Что вы ему сказали? – спросил тот.
– Единственное, что он еще может понять, и чем его можно пронять, – был, мой ответ.
После этой сцены, после вольности, с какой я вытолкал моего нового знакомого, и поспешности, с какой выскочил вслед за ним, оставалось только пригласить его позавтракать. Я уже и забыл, куда я его повел; это было где-то около Люксембургского сада. Там мы уселись друг против друга за столиком и начали копаться в жизни и характере друг друга, как это обычно водится среди юношей.
Родители Пинкертона были уроженцы Ольд-Кентри. Как я догадываюсь, и он сам родился там же, хотя он, кажется, забыл об этом. Я никогда не мог допытаться, сам ли он убежал из дому, или отец бросил его; знаю только, что с двенадцати лет он начал существовать самостоятельно. Странствующий фотограф-ферротипист подобрал его где-то на дороге в Нью-Джерси, подобрал так, как срывают ягоды боярышника с живой изгороди; ему понравился этот мальчуган, и он всюду таскал его за собой в своей бродячей жизни. Он научил его всему, что сам знал, то есть искусству снимать портреты на ферротипных пластинках и сомневаться в священном писании. Он помер потом где-то на дороге в Огайо. «Это был любопытный человек, – воскликнул Пинкертон, – и я хотел бы, чтобы вы видели его, мистер Додд. У него было в наружности что-то такое, что заставляло меня вспоминать о патриархах».
По смерти этого случайного покровителя мальчуган унаследовал его фотографию и продолжал сам заниматься этим делом. «Это была жизнь, которую я охотно избрал, мистер Додд! – воскликнул он. – Я посетил все интересные места, видел всю жизнь этого великолепного континента, который мы с вами рождены унаследовать. Хотел бы я, чтобы вы взглянули на мою коллекцию снимков; жаль, что ее нет сейчас со мной. Я нарочно делал эти снимки для себя, на память; на них природа схвачена в самые ее величественные и полные красоты моменты!»
Во время странствований по западным штатам и территориям, делая снимки, мальчик постоянно запасался книгами, без разбора: худыми, хорошими, безликими, распространенными, неизвестными, начиная с повестей Сильвануса Кобба, вплоть до элементов Эвклида; к моему удивлению, обе эти книги он читал с одинаковым усердием. Он по дороге вдумчиво изучал народ, изделия ремесел и самую страну, обнаруживая замечательный дар наблюдательности и удивительную память. Он собрал ради собственного удовольствия и поучения кучу разного вздора, который, по его убеждению, так сказать, резюмирует собой природного американца. Быть благомыслящим, быть патриотом, загребать обеими руками сведения и деньги, то и другое с одинаковым рвением, – вот, казалось, в чем состоял его символ веры. Впоследствии, конечно, не в первые дни знакомства, я спрашивал у него не раз, зачем он это делает. У него на это был свой ответ: «Для того, чтобы создать тип! – восклицал он. – Все мы обязаны участвовать в этом; все мы должны стараться над созданием типа американца! Лоудон, на нас вся надежда мира. Если и мы провалимся, как феодальные монархи, так что же останется?»
Однако, ремесло фотографа-ферротиписта показалось мальчугану слишком скучным делом. Его амбиция метила выше. Фотография не могла быть расширена, – так объяснял он свои деловые соображения, – притом это дело недостаточно современное. И вот он совершает внезапную перемену и становится железнодорожным скальпировщиком. Я никогда не мог себе уяснить этот промысел в его основах, я знаю только, что сущность его, как кажется, состоит в том, чтобы надувать железные дороги на проездной плате, оттягивая часть этой платы.
Читать дальше