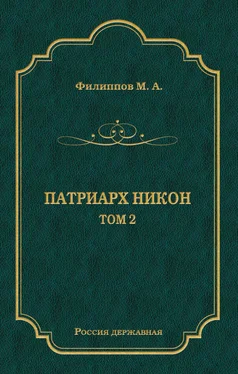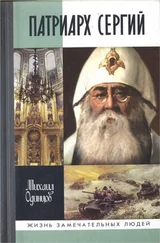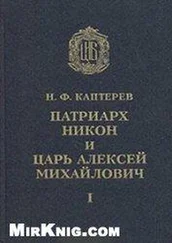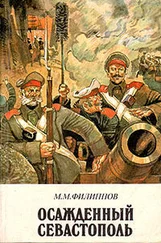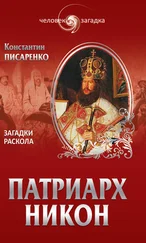Так они прошли некоторое расстояние, но Никон упросил народ разойтись, причем благословлял его.
С плачем и рыданием все прощались с ним, целовали его ноги и одежду.
И Никон плакал навзрыд, – ему казалось, что с любимым народом он расстается навек.
Это не было прощание патриарха с паствой, а отца – с детьми…
Народ разошелся, и Никон уехал в свое подворье.
Напрасно он ждал здесь несколько часов [11] Некоторые уверяют, что он здесь пробыл три дня.
, что из дворца ему пришлют хоть ласковое слово или от царя, или от царевны Татьяны Михайловны.
Ожидания его были напрасны… И вот почти без чувств монахи усадили его в карету, и лошади помчали его в Новый Иерусалим.
Удаление Никона из Москвы было с его стороны величайшею ошибкою: он дал возможность всем врагам своим поднять головы и повести его к окончательной размолвке с царем.
Первые восстали раскольники и торжественно праздновали удаление еретика из Москвы: жена Глеба Морозова, раскольница Феодосия, и жена Урусова – фанатички, – бегали по теремам и бунтовали их, разжигая страсти и преувеличивая поступок Никона, хотя в речи его к народу не было ничего антиправительственного, а, напротив, все было направлено против раскола.
Раскольники это поняли и поняли то, что удаление Никона наносит им больший удар, чем его бывшее могущество; так как удаление его было из-за идеи, следовательно, и он становился мучеником, пострадавшим из-за раскольников и их происков. «Меня хотели побить каменьями, – говорил он народу, – и я удалюсь».
Поэтому раскольничья партия распустила слухи, что Никон удалился из честолюбивых видов, чтобы из монастыря действовать против правительства совершенно самостоятельно и независимо; что для этого он построил такой обширный монастырь на тысячу монахов и устроил его, как крепость; что туда он может набрать ополчение из монастырских крестьян и, пожалуй, может держать в осаде и самую Москву.
Нужно-де на этом основании отнять от него власть над монастырскими имуществами.
Средством же к тому было заставить Никона передать блюдение патриаршего престола митрополиту Питириму и в Монастырский приказ назначать бояр – царю.
Все эти толки, суды и пересуды были на руку боярам: всем им, начиная с Милославского и Морозова, Никон был как бельмо на глазу. Патриарх не допускал им греть руки в завоеванной Белой Руси и в присоединенной Малороссии. По государственному же хозяйству и государевой казне им введена была такая строгая отчетность, что каждая копейка должна была отчитываться.
Пуще же всего на него взъелись за то, что он восставал против медных рублей, так как партия Милославского страшно злоупотребляла ими.
Эти причины вызвали то, что все боярство восстало против него и, собравшись в Боярской думе, уговорило царя сделать в отношении Никона решительный шаг.
Царь отправил к нему на третий день Алексея Никитича Трубецкого и дьяка Лариона Лопухина.
Никон в это время успел уже устроиться в Новом Иерусалиме и усердно занялся своими сооружениями.
Князь Трубецкой застал его на работах: он готовил в мастерской окна и двери для монастыря.
– Для чего ты, святейший патриарх, – обратился к нему Трубецкой, – поехал из Москвы скорым обычаем, не доложа великому государю и не дав ему благословения? А если бы великому государю было известно, то он велел бы тебя проводить с честью. Ты бы подал великому государю, государыне-царице и детям их благословение; благословил бы и того, кому изволит Бог быть на твоем месте патриархом, а пока патриарха нет, благословил бы ведать церковь Крутицкому митрополиту.
– Чтоб государь, государыня-царица и дети их пожаловали меня, простили, – отвечал с кротостью и смирением Никон, – а я им свое благословение и прощение посылаю, и кто будет патриархом, того благословляю; бью челом, чтобы церковь не вдовствовала и беспастырна не была, а церковь ведать благословляю крутицкому митрополиту; а что поехал я вскоре, не известив великому государю, и в том перед ним виноват: испугался я, что постигла меня болезнь и чтоб мне в патриархах Московских не умереть.
Приехав к царю, князь Трубецкой к этим словам от себя присовокупил, что будто бы патриарх сказал: «А впредь я в патриархах быть не хочу, а если захочу, то проклят буду, анафема».
Последние слова не ответствуют всей смиренной речи Никона, а князь Трубецкой явно прибавил их от себя, чтобы окончательно убедить царя, что Никон навсегда отказывается от патриаршества вообще, между тем как тот говорил лишь о московской кафедре.
Читать дальше