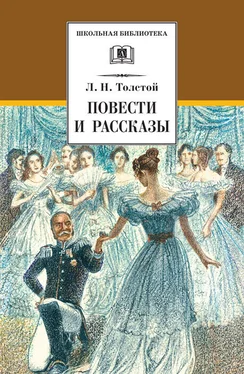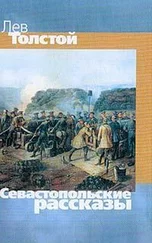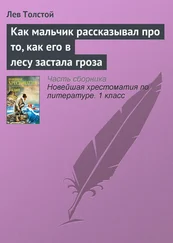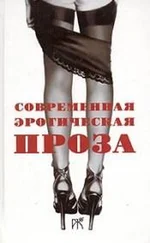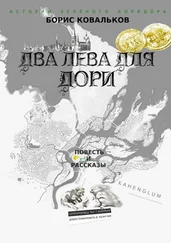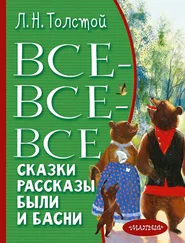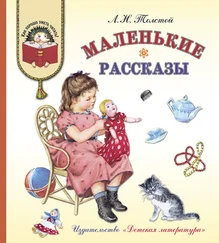Конечно, «революция Толстого» началась много раньше. Мысли основать новую религию, «не обещающую будущее блаженство, но дающую блаженство на земле», посещали художника уже и в молодую пору. Воспитанный в православной вере Толстой рано познакомился также с далекими от христианства философскими учениями Запада. Самую же дорогую для себя «внутреннюю опору» он нашел в сочинениях французского мыслителя и романиста Жан Жака Руссо, провозгласившего, что живая природа, эмоциональный мир человека священны.
Юноша Толстой скоро почувствовал себя обладателем собственной веры. Долгие десятилетия он то слабел в этой вере, то заново укреплялся в ней. Явно или потаенно она дала о себе знать во всех его жизненных начинаниях, его непостижимо богатом раннем и зрелом художественном творчестве. На рубеже 1870–1880-х годов наступил решительный момент, когда убеждения писателя оформились и укрепились. Он выступал отныне как религиозный учитель, готовый переустроить вселенную.
Вот откуда возникала разительная парадоксальность позднего творчества писателя. Толстой изображал действительный мир, утративший память о Боге, но при этом все-таки имел в виду по большей части своего собственного бога, а стало быть, сам принадлежал этому грешному миру. Толстовская духовность вся «разместилась» в области земных естественных переживаний. Величие и драматизм мировой духовной борьбы – борьбы дьявола против Бога, перенесенной в земной мир, суть и смысл истории как движения отпавшего от Бога человека к новому соединению с Творцом через череду отступлений, падений, катастроф словно остались за пределами позднего творчества художника. Он прекрасно слышал отголоски этой великой брани, но был уверен, что тут совершается «иная борьба»: между «человеком чувствительным» и пленившим его «нечувственным», цивилизованным порядком вещей. Художественный образ бытия становился одновременно упрощенным (при всем его психологическом богатстве) и крайне запутанным в своем отношении к действительности.
* * *
Ту часть хамовнического дома, где расположен кабинет писателя, Толстые в шутку называли «катакомбами». Это антресоли – половина второго этажа с необыкновенно низкими потолками, никогда не подвергавшаяся перестройке. Из большого зала спускаешься по нескольким высоким деревянным ступенькам – и попадаешь в темный коридор. Пройдя в сумерках мимо комнат по сторонам (коридор освещен только из открытых дверей), упираешься в небольшое помещение со столиком для сапожных работ, простым платяным шкафом, умывальным прибором. Рядом – крутая лестница на первый этаж, к черному ходу. За стеной рабочей комнатки, под таким же низким потолком, – кабинет Толстого.
Прикосновение к повседневной жизни великого человека всегда или почти всегда вызывает у нас чувство наивного удивления. Нам нелегко соединить в сознании внутренний мир творца и тесные земные рамки, в которых он осуществился. И потому эти мелочи быта, такие знакомые каждому, эти понятные, видимые приметы творческой работы по контрасту с масштабом личности особенно трогают нас. Но, сами того не замечая, растроганные «привычками обихода», мы уже начинаем узнавать человека «в его сердцевине», незваные гости, посещаем его «душевный дом».
Обычно кабинет Толстого можно увидеть только из дверей соседней, рабочей комнаты. За годы, проведенные в музее, при разных обстоятельствах я несколько раз видел его изнутри. Обтянутый зеленым сукном письменный стол «с решеточкой». Он стал знаменит благодаря портрету, написанному с натуры художником Николаем Ге, другом и религиозным сподвижником Толстого в последние десятилетия XIX века. Толстой писал и Ге писал, наблюдая за ним вот примерно отсюда, где теперь находишься ты. Тут же, в комнате, – пюпитр; к нему писатель становился, уставая работать сидя. Обтянутые черной кожей большие диван и кресла. Книг почти нет: библиотека во все время московской жизни Толстых оставалась в Ясной Поляне (сотни необходимых Толстому для работы изданий приносили ему из библиотек). Весь пол покрыт шинельным сукном – шагов не слышно. За окнами сад.
И внутренняя обстановка кабинета, и еще больше его уединенное расположение в доме, это шествие к нему через темные «катакомбы» невольно приводят на память все, что ты слышал и знаешь о монашеских кельях, где посвящают себя молитвенному труду, о подвиге первых христиан, уходивших под землю от гонений языческого мира. Но ясно, что перед тобой какая-то особенная келья – без икон, без креста. Кабинет довольно просторен. Может быть, именно это обстоятельство в сочетании с низким потолком вызывает непреодолимо «горизонтальное» чувство, словно ты можешь сколь угодно далеко двигаться вширь, но не в силах подняться выше определенного предела. Почти как та духовность, что открылась тебе в повестях и трактатах Толстого. И несмотря на всю свою слепоту в духовных вопросах, ты понимаешь: если коридор – это катакомбы, то катакомбы именно в переносном значении слова, если кабинет – это келья, то келья, где веруют и молятся на свой отдельный манер. Словно какая-то новая сила стремится тут облечь себя в тысячелетние формы отеческой святости.
Читать дальше