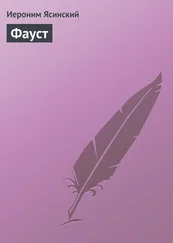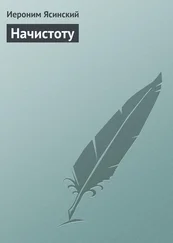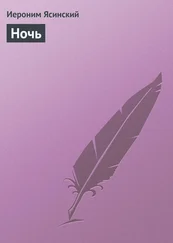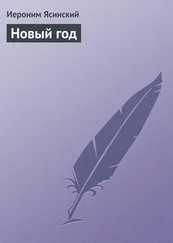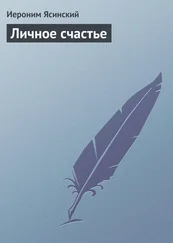«Прелюбезный и преобходительный граф», – думал между тем Перушкин, надевая на лестнице свой цилиндр.
II
На третий день, в назначенное время, Румянцев облекся в свежее белье и во фрак, но раздумал ехать в церковь, тем более что на улице встретил хорошенькую девушку и у него явилось занятие – он проследил, где она живет, разумеется, с тем, чтобы через минуту совершенно забыть о ней. Было уже девять часов, когда Румянцев поднялся по парадной лестнице в квартиру, где справлялся свадебный пир. Лестница была ярко освещена; швейцар вместе со швейцарихой снимал внизу пальто и шубы, так как многие гости из торговцев явились на бал в мехах, воспользовавшись легким заморозком.
– Сюда-с, пожалуйте-с! – закричал Кирюша, брат Перушкина, увидев сверху Румянцева и сбегая к нему. Кирюша был неестественно напомажен. Жилет на нем был открытый, с огромным вырезом, но, должно быть, не его, а брата. Да и фрак был с чужого плеча. Кирюша казался поэтому внезапно отощавшим и похудевшим человечком. Размахивая руками, широко шагая через одну ступеньку и оглядываясь на Румянцева, он мчался впереди. Клубы табачного дыма носились на верхней площадке лестницы. Гостей было уже много, и слышался шум их голосов.
– Сюда-с, сюда-с! Осторожнее-с! – вскричал Кирюша, теряя равновесие и падая на площадку. В передней встретил Румянцева купец из Апраксина рынка, посаженый отец Перушкина, и низко ему поклонился.
– Большую честь вы сделали нам, ваше сиятельство! – промолвил он, и Румянцев покраснел, не имея силы воли отречься от графства.
– Граф приехал! Граф! Граф! – услышал он сдержанный говор вокруг себя. Посмотреть на графа поспешили в переднюю разные приказчики и дамы с такими лицами, которые Петр Гаврилович обыкновенно называл «мордимондиями». Приказчики и мордимондии приветливо улыбались ему и кланялись. Он вошел в залу. К нему подлетел, держа руки фертом, господин лет тридцати пяти с густыми завитыми волосами и в усах.
– Ваше сиятельство! – проговорил он сладко и услужливо.
Так парикмахер Петра Гавриловича произносит: «Прикажете постричь?» И точно, взглянув на него, Румянцев узнал в нем monsieur Жоржа, который всегда его стриг и был на самом деле не Жоржем, а Егором, но взял себе французский псевдоним с тех пор, как открыл мастерскую. У Жоржа в петлице фрака красовался белый букет – он был шафером. Вслед за Жоржем подошел почтенный человек с большим сизым носом, в смятой манишке. Медные запонки выпали из петель манишки и держались только на ниточке, оставляя на полотне черный след.
– Ах, мы вас, граф, очень ждем, – шепелявя, заговорил господин с сизым носом; он оказался родственником невесты и ее посаженым отцом. Молодые люди с такими же напомаженными волосами, как Кирюша, и с букетами в петлицах фраков засуетились около Румянцева. Все представлялись ему, кланялись, стремились пожать ему руку. Наконец, его подвели к молодым, которые сидели рядом на почетном месте, за большим столом. Весь стол был заставлен разными закусками – икрой, сыром, колбасами, копчеными селедками, семгой, вареньем, фруктами и бутылками с вином, пивом и водкой.
Молодые приподнялись навстречу «графу». Павел Осипович был украшен такой золотой цепью, что сразу являлось сомнение в ее ценности. Но она блестела, как золотая, и походила на кольчугу. Модный воротничок так сжимал шею Павла Осиповича, что казалось, будто его собираются удавить. Он весь был затянут; можно было подумать, что он в корсете. Его, очевидно, стесняли тугая рубашка, фрак и самое положение как новобрачного. Он был бледен и смотрел на все, даже на Румянцева, с тупым удивлением. Петр Гаврилович в другом месте не узнал бы его, потому что Перушкин нафабрил и поставил стрелкой усы, а его обыкновенно прямые, грязно-желтые волосы были до смешного мелко завиты. Чокаясь со всеми, он уже порядком охмелел и находился в удрученном состоянии.
– Честь… Вполне честь! Граф, я тронут! Я благорасположен! – пробормотал он, указав левой рукой, затянутой в белую лайковую перчатку, на жену.
И новобрачная тоже напоминала собою восковую куклу из анатомического музея. Она с торжественно-любезною улыбкою протянула Петру Гавриловичу руку. Из-под белой фаты смотрело маленькое, уже увядшее лицо, которое едва ли было даже когда-нибудь красиво, а глаза выражали скорее испуг, чем счастье. Кирюша подал на подносе бутылку шампанского, и Петр Гаврилович должен был выпить за здоровье новобрачных. Но едва он взял бокал, как вся зала гаркнула:
Читать дальше