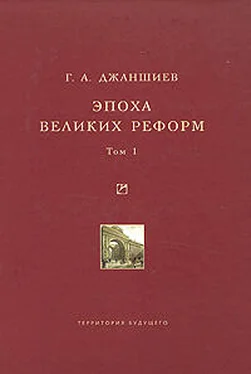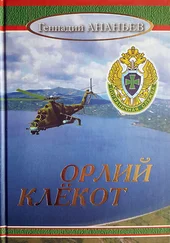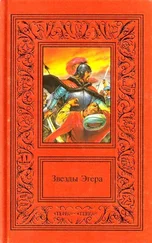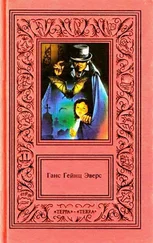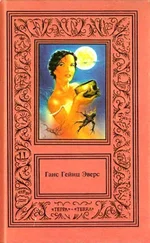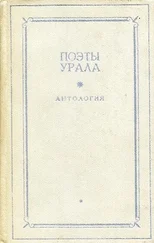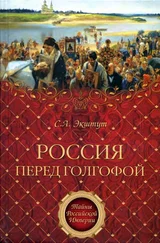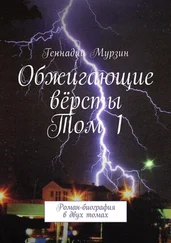Когда у нового человека – это было давно, в эпоху так называемого Возрождения, – проснулся интерес к самому себе, к своему внутреннему миру, он впервые почувствовал интерес и к природе: его глазам впервые раскрылась красота, щедрою рукою разлитая вокруг него великим Демиургом и раньше им не замечаемая. Эта тесная связь между культом личного начала и пониманием природы, так ярко раскрывшаяся в то время, необыкновенно характерна. И умение понимать природу является одним из показателей культурной высоты человека. Джаншиев всегда прекрасно понимал это, ощущал действие природы на собственном «я» и придавал ему огромное, не только моральное, но и общественное, значение. «В чем же, – спрашивает он однажды, – суть и главная привлекательная сторона этих впечатлений? В том, что под действием их духовный мир человека как-то укрепляется, проясняется, как бы окрыляется, совлекая с себя, увы, только временно, бремя и накипь вседневной пошлости, мелочности, эгоизма „самообожания“».
Но этого мало. Несколько ниже Джаншиев продолжает: «Быть может, я совершенно заблуждаюсь, но я глубоко верю и вполне убежден, что распространение в массах любви к природе, умения наблюдать ее, понимать и ценить ее дивные красоты – наравне с столь могуче проявившимся в последние два десятилетия среди англо-американского общества обоих полушарий стремлением открыть (народу) желанный доступ к высшим в мире наслаждениям, даруемым наукой и искусством, должны служить вернейшими двигателями прогресса и ослабления антагонизма между богатыми и бедными!»
Едва ли общественное неравенство и классовые противоречия могут быть устранены или даже только ослаблены теми способами, о которых упоминает тут Джаншиев, но для него характерна та глубокая вера, с которою он об этом говорит. В его устах это не фраза; это частичка его самых святых убеждений.
Приглядимся к этим убеждениям несколько более пристально.
Когда Джаншиев стал систематически работать в периодических изданиях, не ограничиваясь специально судебными вопросами, уже давно прошло то праздничное оживление, которое было вызвано эпохою реформ. В то время (конец семидесятых годов) уже начиналась ломка и на сцене появлялись такие элементы, которые раньше сидели по норам, а теперь обрадовались и полезли на свет Божий, чуя всякие приятные для себя запахи. Формировалась новая порода людей – восьмидесятник начинал занимать сцену и готовился к проповеди откровенного эгоизма в личной жизни и оппортунизма в общественно-политических делах.
Политическое мировоззрение Джаншиева, в общем, сложилось гораздо раньше. Еще безусым абитуриентом гимназии он сознательно отказался поступить на тот факультет, в который его тянуло – историко-филологический; его отпугивала прочно приставшая к нему этикетка «ретроградства и обскурантизма». Но в отдельных вопросах у него ни в это время, ни по окончании университета не всегда были твердо установившиеся взгляды. Частью они у него складывались потом под различными влияниями. Жизнь учила; уроки, которые давала действительность второй половины семидесятых годов, были необыкновенно красноречивы, и у всякого честного человека вызывали только одно отношение.
Как юрист Джаншиев неоднократно имел случай сопоставлять положение суда и принципы законодательства в эпоху, непосредственно следовавшую за изданием судебных уставов, и в то время, какое он переживал. Сравнение выходило поучительное, заставляло задумываться, возбуждало мысль. Неприглядная действительность все чаще и чаще принуждала искать отдохновения в минувшем, поминать борцов за новый суд. Так, мало-помалу, возникали сначала статьи, потом книги [5]. От судебной реформы взор невольно обращался к другим реформам 60-х гг. и к самой главной – крестьянской; потом крестьянская реформа выдвигалась на первый план и становилась центром изучения…
В этих «исторических справках», к которым все с большей и большей силою гнала его действительность, Джаншиев постепенно сделался тем человеком, которого знает Россия по «Эпохе реформ» – последовательным и стойким сторонником тех принципов, из которых выросло все движение шестидесятых годов [6].
Евангелие Джаншиева – евангелие лучших представителей русского либерализма. Свобода – его бог. «Дайте свободу, остальное приложится», – говорит он, понимая под свободой – свободу личности, слова, мысли, союзов. Это убеждение сидело в нем крепко. Когда ему говорили, что либеральной программы по нынешним временам мало, он отвечал, что Россия не доросла до более радикальных, что те возникли на почве более сложных общественных отношений Запада и нам не годятся. На этой почве он не уступал ни пяди. Когда его противники выкладывали ему целую литературу, начиная с Коммунистического Манифеста и кончая последними памфлетами, Джаншиев улыбался и добродушно просил позволить «старому либералу» помереть в собственной вере. Крепкая и горячая была та вера. На Босфоре он любуется ярким ночным небом и, смотря на Полярную звезду, думает, что она все еще шлет на землю луч времен крепостничества, и что настоящий свободный луч, пустившийся в путь в 1861 г., доберется до нашей планеты только в 1911 г. Около Земмеринга в долине Мура он увидел из окна вагона пару волов, запряженных в конскую упряжку – и ничего больше. А послушайте, что он говорит: «Меня всегда поражал господствующий у нас на всем юге варварский способ запряжки волов. Огромное тяжелое ярмо давит и режет шею несчастному животному. К кому я ни обращался, отовсюду получал один и тот же ответ: вол к ярму привык и без него не пойдет. Дивился я такой странной любви вола к ярму, но должен был пожертвовать своей завиральной либеральной доктриною в пользу факта и непреложной традиции… И вдруг я увидел в долине Мура осуществленной мою детскую мечту… С точки зрения эстетической, может быть, лошадиная упряжь корове и нейдет, но что корова с такою упряжью идет вольно и от своей относительной свободы не страдает и не бесится, не подлежит сомнению. Не так ли основательно рассуждают иные о традиционных людских ярмах?»
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу