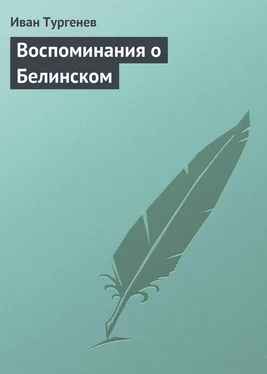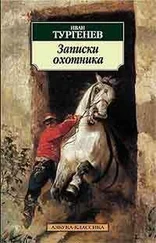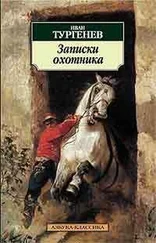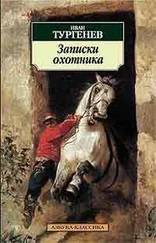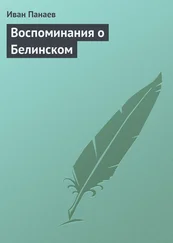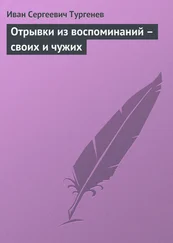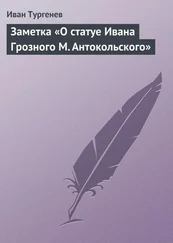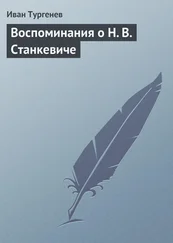Из стихотворения Гете «Keinen Reimer wird man finden» («Рифмоплета нет такого»), цикл «Westostlicher Diwan» («Западно-восточный диван»). У Гете – в ироническом смысле.
12 января 1847 г. Тургенев выехал за границу, летом виделся с Белинским в Берлине, Зальцбрунне и Париже; вернулся в Россию лишь в 1850 г.
О взаимоотношениях Белинского с новой редакцией «Современника» см. прим. 56 к с. 514.
Имеется в виду статья Белинского о «рассказе в стихах» «Параша» («Отечественные записки», 1843, № 5). В статье «Взгляд на русскую литературу 1847 года» («Современник», 1848, № 1, 3) Белинский дал анализ литературной деятельности Тургенева до «Записок охотника», причем уже более сдержанно отозвался о «Параше». По мнению Белинского, талант Тургенева «обозначился вполне» именно в «Хоре и Калиныче» ( Белинский, X, 344–346).
Отзыв Белинского о прозаических произведениях Тургенева содержится в цитируемом ниже письме от 19 февраля/3 марта 1847 г. (с. 515).
После исключения в конце сентября 1832 г. из университета Белинский был вынужден взяться за перевод романа Поль де Кока «Магдалина». За свой перевод Белинский получил «едва-едва» сто рублей ассигнациями ( Белинский, XI, 93). См. также прим. 24 к с. 115.
Речь идет о чувстве к А. А. Бакуниной. «Скоро умерла» (в 1838 г.) ее сестра – Л. А. Бакунина, невеста Н. Станкевича.
О чувстве к «гризетке» и тяжелых переживаниях, связанных с этой историей, развязка которой заставила его «горько рыдать, как ребенка», Белинский вспоминал неоднократно (см., например, Белинский, XI, 359, 410). Полюбив простую девушку, Белинский «взялся было за ее умственное развитие, – с помощью чтения избранных поэтических произведений, но она скоро разбила созданный им идеал» (воспоминание свидетельницы «истории с гризеткой» родственницы Белинского Н. Н. Щетининой – «Русский», 1868, № 15). Только поездка в Премухино принесла ему облегчение.
Последняя (третья) строфа стихотворения Ф. И. Тютчева «Как над горячею золой…» (1830).
Это сознание «своевременности» смерти Белинского, сознание того, что на его долю выпали бы еще горшие страдания, было, очевидно, распространено среди друзей критика. «Сердце беднеет, верования и надежды уходят, – писал Грановский Фролову в августе 1848 г. – Подчас глубоко завидую Белинскому, вовремя ушедшему отсюда» («Т. Н. Грановский и его переписка», т. 2. М., 1897, с. 425). Через год, в июне 1849 г., после ареста петрашевцев, Грановский писал Герцену, подразумевая неизбежность самых тяжелых репрессий до отношению к Белинскому, если бы он был жив: «…в Петербурге открыты три тайные общества разом, и в них много офицеров, вышедших из кадетских корпусов… О литературе и говорить нечего. Есть с чего сойти с ума. Благо Белинскому, умершему вовремя» («Звенья», № 6. М. – Л., 1936, с. 360). См. также приписку Н. Н. Тютчева в прим. 53 к с. 513.
См. прим. 24 к с. 180.
Строка из стихотворения Байрона «Стансы».
Из «Гамлета» Шекспира (действ. III, сц. I – монолог Гамлета «Быть или не быть…»).
Далее Тургенев с некоторыми неточностями цитирует письмо А. П. Тютчевой, опуская начало и конец его, а также приписку Н. Н. Тютчева к словам «чтоб его опровергли»: «До сознательного убеждения неизбежной близости смерти он не дошел, а умер почти как Кульчицкий, только что страдание его было продолжительнее и живее. Впрочем, он умер вовремя» ( ЛН, 56, 196).
О своем посещении Белинского Грановский сообщал жене 25 мая 1848 г. («Т. Н. Грановский и его переписка», т. 2. М., 1897, с. 273).
О последних словах Белинского стало известно его друзьям. Смерть каторжанина Крота в поэме Некрасова «Несчастные» (1856) – это смерть Белинского, обратившегося в последние минуты с «речью к народу»:
Кричал он радостно: «Вперед!»
И горд, и ясен, и доволен
Ему мерещился народ
И звон московских колоколен,
Восторгом взор его сиял,
На площади, среди народа,
Ему казалось, он стоял
И говорил…
См. также воспоминания А. В. Орловой, с. 563 наст. книги.
Публикацией выдержек из писем Белинского Тургенев начал обсуждение вопроса о положении критика в «Современнике». Эти выдержки должны были подтвердить тезис Тургенева, поддержанный впоследствии Кавелиным (см. с. 178–179) и Анненковым (см. с. 435), будто «Белинский был постепенно и очень искусно устранен от журнала» его руководителями – Некрасовым и Панаевым. Тургенев имел в виду их отказ предоставить Белинскому третью долю в доходах журнала, чем и было вызвано первое из опубликованных Тургеневым писем с упреками по адресу Некрасова. Однако вскоре, объяснившись с Некрасовым и согласившись с его доводами, Белинский снял свои обвинения. «Я имею убеждение и некоторые доказательства, – разъяснял позднее, в 1869 г., в письме к М. Е. Салтыкову сложившуюся ситуацию Некрасов, – что Белинский сам очень скоро увидел, что его положение как дольщика (при необходимости брать немедленно довольно большую сумму на прожиток и неимении гарантии за свою долю в случае неудачи дела) было бы фальшиво. Это он мне сам высказал» ( Некрасов, XI, 136). Белинский сумел понять всю трудность положения Некрасова. В опущенной Тургеневым части второго из опубликованных писем критик, защищая Некрасова, говорит о его «апатии», которая, несомненно, была вызвана рядом сложных обстоятельств, сопровождавших «рождение» «Современника». «Он <���Некрасов>, – писал Белинский, – смотрит мне в глаза так прямо и чисто, что, право, все сомнения падают сами собою» ( Белинский, XII, 344). О своих отношениях с Некрасовым Белинский подробно информировал Кавелина ( Белинский, XII, 458).
Читать дальше