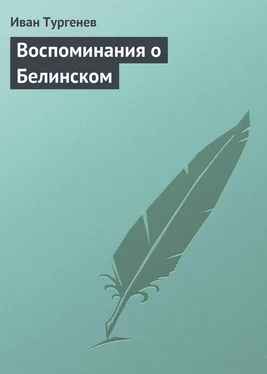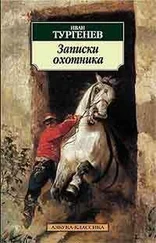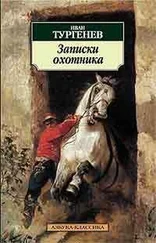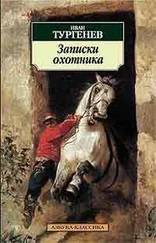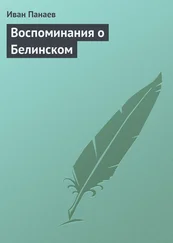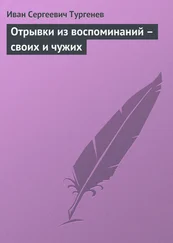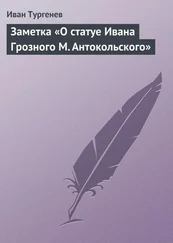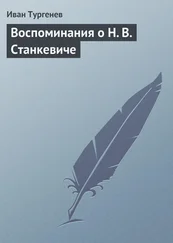В «Воспоминаниях о Белинском» действительно сказалась возникшая с годами неприязнь Тургенева к Некрасову, которая заставила дать несправедливую, опирающуюся на тенденциозно подобранные отрывки из писем Белинского, трактовку роли Некрасова в период организации «Современника». Некрасов, не выступивший в печати, хотел сразу же по прочтении воспоминаний Тургенева дать объяснение в форме письма к М. Е. Салтыкову (сохранилось четыре черновых редакции письма; см. Некрасов, XI, 130–137).
Несомненно, однако, что образ Белинского нарисован Тургеневым с большой любовью и «умилением». Справедлив и глубок выдвинутый писателем тезис о Белинском как «центральной натуре» (подробный комментарий см.: Тургенев, Соч., т. XIV, с. 435–449, 510–513).
Воспоминания о Белинском
Впервые напечатаны в журнале «Вестник Европы», 1869, № 4, затем, с рядом исправлений, перепечатывались в изданиях Сочинений И. С. Тургенева 1869 года, 1874 и 1880 годов (в изд, 1869 г. появилось «Первое прибавление»; в изд. 1880 г. – «Второе прибавление»; там же были сняты резкие выпады против Достоевского и Некрасова). В настоящем издании печатаются по тексту: Тургенев. Соч., т. XIV, с. 22–63.
наружный вид ( лат. ).
Стих Некрасова. ( Прим. И. С. Тургенева. )
Много хлопот тогда наделало в Москве известное изречение Гегеля: «Что разумно – то действительно, что действительно – то разумно». С первой половиной изречения все соглашались, но как было понять вторую? Неужели же нужно было признать все, что тогда существовало в России, за разумное? Толковали, толковали и порешили: вторую половину изречения не допустить. Если б кто-нибурь шепнул тогда молодым философам, что Гегель не все существующее признает за действительное, – много бы умственной работы и томительных прений было сбережено; они увидали бы, что эта знаменитая формула, как и многие другие, есть простая тавтология и, в сущности, значит только то, что «opium facit dormire, quare est in eo virtus dormitiva» – то есть опиум заставляет спать по той причине, что в нем есть снотворная сила (Мольер)*. ( Прим. И. С. Тургенева. )
* Из комедии Мольера «Мнимый больной» (третья интермедия).
Добрый человек и в неясном своем стремлении всегда
Имеет сознание прямого пути*.
(
Прим. И. С. Тургенева. )
* Из «Фауста» Гете (Пролог на небесах) в переводе Тургенева.
См. статьи его о Марлинском, Баратынском, Загоскине в т. д. ( Прим. И. С. Тургенева. )
Пишущий эти строки своими ушами слышал, как один молодой почитатель Добролюбова, за карточным столом, желая упрекнуть своего партнера в сделанной им грубой ошибке, воскликнул: «Ну, брат; какой же ты Кавур!» Признаюсь, мне стало грустно: не за Кавура, разумеется! ( Прим. И. С. Тургенева. )
См. второе прибавление в конце отрывка. ( Прим. И. С. Тургенева. )
Эти имена, которые я тогда не решился назвать, вероятно, приходят теперь на уста каждому читателю, – имена Марлинского, Кукольника, Загоскина, Бенедиктова, Брюллова, Каратыгина и др. ( Прим. И. С. Тургенева. )
Прошу позволения привести слова одной тогдашней великосветской барыни, встретившей меня следующим восклицанием; «Avez-vous lu la «Douma»? Qui pouvait s'attendre a cela de la part de Lermontoff!.. Lui, qui venait de dire» <���Читали ли вы «Думу»? Кто бы мог ожидать этого от Лермонтова!.. Он, который только что говорил>: «Я, матерь божия, нонче с молитвой! «C'est affreux!» <���Это ужасно> ( Прим. И. С. Тургенева. )
Трех лет еще не прошло с Парижского мира 1856 года, когда я читал эти лекции. ( Прим. И. С. Тургенева. )
Тогда только что вышли первые томы полного издания его сочинений. ( Прим. И. С. Тургенева. )
Белинский часто читал между друзьями стихотворение Льва Пушкина, брата поэта, «Петр Великий» и с особенным чувством произносил стихи, в которых преобразователь представлен был влачащим —
Ряд изумленных поколений
Рукой могучей за собой*.
(
Прим. Л. С. Тургенева. )
* В этом стихотворении, подписанном Л. П. и напечатанном в № 7 «Отечественных записок» за 1842 г., Белинский увидел «что-то энергическое, восторженное и гражданское, есть много смелого…» ( Белинский, XII, 111).
Государственного переворота ( франц. ).
См. его статьи о Пушкине, о Гоголе, о Кольцове – и особенно его статьи о народных песнях и былинах*. При слабости и скудости тогдашних филологических и археологических данных они поражают читателя глубоким и живым пониманием народного духа и народного творчества. ( Прим. И. С. Тургенева. )
Читать дальше