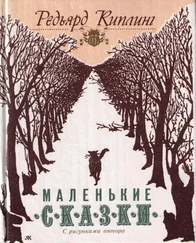– Ступай прочь; ты пьян, – сказал кучер.
– Вовсе не пьян, – сказал матрос. – Я дожидался тут много часов. Выходи, негодяй… что сидишь там?
– Поезжай, кучер, – сказал голос – свежий, английский голос.
– Ладно, – сказал матрос. – Не хотел меня слушать, когда я был вежлив. Ну, а теперь выйдешь?
В экипаже образовалась зияющая пропасть – матрос сорвал дверцу с петель и усердно обыскивал внутренности его. В ответ он получил удар хорошо обутой ноги, и из экипажа вышел, не в восторженном настроении, припрыгивая на одной ноге, кругленький, седой англичанин, из-под мышек которого валились молитвенники, а из уст вылетали выражения, совершенно не похожие на гимны.
– Иди-ка сюда, человекоубийца! Ты думал, что я умер, не так ли? – ревел матрос.
Достопочтенный джентльмен подошёл к нему, будучи не в силах произнести ни слова от бешенства.
– Убивают сквайра! – крикнул кучер и упал с козёл на шею матросу.
Нужно отдать справедливость всем обитателям Фремлингэм-Адмирал, которые находились на платформе: они ответили на призыв в лучшем духе феодализма. Сторож ударил матроса по носу штемпелем для билетов, а три пассажира третьего класса схватили его за ноги и освободили пленника.
– Пошлите за констеблем! Заприте его! – сказал последний, поправляя воротничок, и все вместе втолкнули матроса в чулан для ламп и повернули ключ; кучер оплакивал сломанный экипаж.
До тех пор матрос, который только желал правосудия, благородно сдерживался. Но тут он выкинул на наших глазах шутку, изумившую всех нас. Дверь чулана была крепкая и не подалась ни на дюйм; тогда он сорвал раму окна и выбросил её на улицу. Сторож громким голосом считал убытки, а остальные, вооружившись сельскохозяйственными инструментами из сада при станции, беспрестанно размахивали ими перед окном; сами же крепко прижались к стене и убеждали пленника подумать о тюрьме. Насколько они понимали, он отвечал невпопад; но видя, что ему преграждён выход, взял лампу и бросил её через разбитое окно. Лампа упала на рельсы и потухла. С непостижимой быстротой за ней последовали остальные – в общем пятнадцать, словно ракеты во тьме, а когда матрос дошёл до последней (не думаю, чтобы у него был какой-нибудь определённый план), ярость его иссякла, так как действие смертоносного напитка доктора возобновилось под влиянием энергичных движений и очень обильной еды, и произошёл последний, отчаянный катаклизм. В это время мы услышали свисток поезда.
Все стремились увидеть как можно лучше сцену разрушения; от станции запах керосина подымался до самого неба, и паровоз трясся по разбитому стеклу, словно такса, бегающая по стёклам в парнике с огурцами. Кондуктор должен был выслушать рассказ о приключении (сквайр передал свою версию грубого нападения), и, когда я сел на моё место, вдоль всего поезда из окон выглядывали лица.
– В чем дело? – спросил один молодой человек, когда я вошёл в вагон. – Верно, пьяный?
– Ну, насколько верны мои наблюдения, это, скорее всего, похоже на азиатскую холеру, – ответил я, медленно и отчётливо выговаривая слова так, чтобы каждое из них имело вес и значение. Заметьте, что до сих пор я не принимал участия в борьбе.
Это был англичанин, но он собрал свои вещи так же быстро, как некогда американец, и выскочил на платформу.
– Не могу ли я быть полезен? Я – доктор! – закричал он.
Из чулана для ламп раздался усталый, жалобный голос:
– Ещё один проклятый доктор!
А поезд, отошедший от станции в семь часов три четверти, уносил меня на шаг ближе к Вечности, по дороге, избитой и изборождённой страстями и слабостями и борющимися между собой противоречивыми интересами человека – бессмертного властелина своей судьбы.
Недоразумение, на котором основан этот рассказ, происходит от двоякого значения выражения «has taken» – взял и принял.
Лондонская юго-западная дорога.