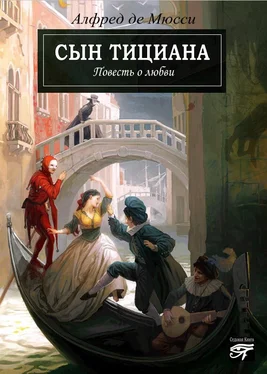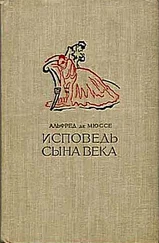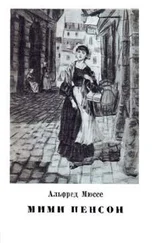Пиппо долго думал об этом прежде, чем решил надеть на себя маску равнодушия к искусству, которое мало – помалу действительно, овладело им.
– Если я буду работать еще двадцать лет, – говорил он, – и попытаюсь подражать отцу, то все равно останусь гласом вопиющего в пустыне; если же у меня не хватит сил, то я обесславлю свое имя. – И в заключение он восклицал со своей обычной веселостью:
– К черту живопись! Жизнь слишком коротка!
А портрет все еще оставался неоконченным.
Как-то раз Пиппо зашел в монастырь Сенвитов. В капелле он увидел на высоких подмостках сына Марка Вечеллио, который, как я говорил выше, также называл себя Тицианелло. Он присвоил себе это имя, – не имея на то ни малейшего права, – на том основании, что приходился дальним родственником Тициану и его назвали при крещении Тито; Тито он переделал в Тициана, а Тициана в Тицианелло; благодаря этому, все профаны Венеции поверили, что он унаследовал ген великого художника, и восторгались его фресками.
Пиппо всегда относился довольно равнодушно к этой забавной мошеннической проделке, но в этот момент, – потому ли, что на него неприятно подействовала встреча с этим господином, или потому, что его собственный талант предстал перед ним в настоящем свете, – но только он подошел к подмосткам, которые опирались на шаткие подпорки, то сразу толкнул ногой одну из них; она упала; к счастью, подмостки не рухнули вместе с нею, но они начали качаться так, что самозваный Тицианелло зашатался сначала, как пьяный, а потом растянулся среди своих красок, самым забавным образом выпачкавшись в них.
Когда он поднялся, то пришел, понятно, в неописуемую ярость. Он сбежал с подмосток и бросился к Пиппо, осыпая его ругательствами. Священник кинулся разнимать их в ту минуту, когда они, невзирая на святость места, готовились обнажить свои шпаги; молящиеся обратились в бегство, в ужасе осеняя себя крестным знамением, тогда как любопытные поспешили сбежаться.
Тито кричал во все горло, что этот человек хотел его убить, и что он требует суда над ним; опрокинутая подпорка подтверждала его слова. Присутствующие начали роптать, и один из них, смелее прочих, хотел схватить Пиппо за ворот. Пиппо, поступавший так из простого сумасбродства и глядевший на всю эту сцену смеясь, в свою очередь пришел в бешенство, видя, что его хотят тащить в тюрьму, как убийцу. Резко оттолкнув пытавшегося задержать его, он бросился на Тито.
– Это тебя, – вскричал он, хватая его, – тебя надо взять за шиворот и повести на площадь Святого Марка, чтобы повесить там, как вора! Знаешь ли ты, с кем ты говоришь, мошенник? Я – Помпонио Вечеллио, сын Тициана! Я пихнул сейчас ногой твой гнилой балаган; но если бы на моем месте был мой отец, то будь уверен, что он так тряхнул бы тебя на твоих подмостках, чтобы отучить называться Тицианелло, что ты полетел бы вниз, как червивое яблоко. Но он не ограничился бы этим. Он взял бы тебя за ухо, наглый мальчишка, и отвел бы в мастерскую, из которой ты убежал, не научившись рисовать простую голову. Какое право имеешь ты пачкать стены этого монастыря и подписываться моим именем под своими жалкими фресками? Пойди-ка, поучись прежде анатомии и поработай над трупами десять лет, как я у моего отца, и тогда мы посмотрим, что ты из себя представляешь, и имеешь ли право на это имя. А до тех пор не осмеливайся присваивать себе то, что принадлежит мне одному, иначе я сброшу тебя однажды в канал, чтобы окрестить раз и навсегда!
С этими словами Пиппо вышел из церкви.
Как только толпа услышала его имя, она тотчас же успокоилась, расступилась перед ним, давая дорогу, и с любопытством пошла вслед за ним. Пиппо отправился в маленький домик, где его ждала Беатриче. Не говоря ей ни слова о случившимся, он взял палитру и, еще охваченный гневом, принялся рисовать.
Менее чем через час, портрет был окончен. Пиппо многое изменил в нем; он уничтожил некоторые детали; придал более естественное положение складкам драпировки; отделал фон и аксессуары, которые играют важную роль в венецианской живописи. Затем он перешел ко рту и глазам, и ему удалось несколькими мазками придать им совершенное выражение. Взгляд был нежен и горд; губы, над которыми виднелся легкий пушок, были полуоткрыты; зубы блестели, как перлы, и казалось, она сейчас заговорит.
– Ты будешь называться не Венерой в венце, – сказал он, бросая кисть, – а влюбленной Венерой.
Можете себе представить радость Беатриче; пока Пиппо работал, она с затаенным дыханием следила за ним; она целовала и благодарила его без конца и заявила, что отныне будет называть его не Тицианелло, а Тицианом. Остальную часть дня Беатриче говорила только о бесчисленных красотах, которые она каждую минуту открывала в своем портрете; она жалела, что он не может быть выставлен публично, и была готова просить Пиппо об этом. Вечер провели в Кинтавалле, и никогда еще наши влюбленные не были так веселы и счастливы. Пиппо сам радовался, как ребенок, и лишь поздней ночью, после бесконечных ласк, Беатриче решилась расстаться с ним на несколько часов.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу