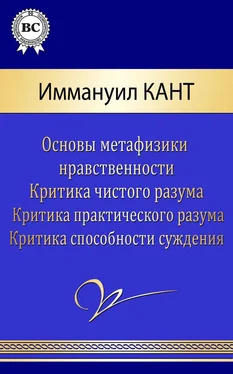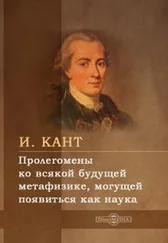Я могу, правда, сказать, что мои представления следуют друг за другом, однако это значит лишь, что мы сознаем их как сменяющиеся во времени, т. е. согласно форме внутреннего чувства. Поэтому время не есть нечто само по себе существующее, оно не есть также определение, объективно присущее вещам.
Предикаты явления могут приписываться самому объекту, если речь идет об отношении к нашему чувству, например розе – красный цвет или запах; но видимость никогда не может быть приписана предмету как предикат именно потому, что в таком случае она приписывала бы объекту самому по себе то, что присуще ему только в отношении к чувствам или вообще к субъекту, как, например, два ушка, которые сначала приписывали Сатурну. Явление есть то, что вовсе не находится в объекте самом по себе, а всегда встречается в его отношении к субъекту и неотделимо от представления о нем; в этом смысле предикаты пространства и времени совершенно правильно приписываются предметам чувств, как таковым, и здесь нет никакой видимости. Если же я розе самой по себе приписываю красноту, Сатурну – два ушка или всем внешним предметам – протяжение само по себе, не обращая внимания на определенное отношение предметов к субъекту и не ограничивая свое суждение этим отношением, то лишь в этом случае возникает видимость.
Естественная теология. Сторонники естественной теологии соотносят понятие Бога с природой вообще и с человеком в частности. В естественной теологии, например, Бог «представляется» как «перво-создатель» или как «перводвигатель» явно по аналогии с природными явлениями. Кант замечает, что сторонники естественной теологии приписывают «создателю мира» свойства, порядок и единство, наблюдаемые в природе и у человека как части природы.
С таким толкованием «естественной теологии» связано деление Кантом этого вида теологии на два «подвида» в зависимости от того, с чем соотносится понятие Бога: с природой или со «свободой» (т. е. с человеком, так как, согласно Канту, понятие свободы присуще только человеку как единственному свободному существу) – Бог рассматривается или как высшее мыслящее существо и как таковое есть «начало» всякого природного, естественного порядка и совершенства, или как высшее свободное существо и как таковое есть «начало» всякого морального порядка и совершенства. В первом случае мы, по Канту, имеем дело с физикотеологией, во втором случае – с этикотеологией, или моральной теологией.
Целью такого деления естественной теологии было для Канта показать недоказуемость понятия Бога как не соотносимого ни с каким возможным опытом.
Канон рассудка и разума (древнегреческое κανών – правило, правило, мерило) в философии Канта – совокупность принципов правильного применения познавательных способностей. Кант усматривал отличие своего понимания канона от традиционного в том, что считал принцип «соотносимости с опытом» главным принципом своей теории познания. Поскольку чистый разум сам по себе не может добыть синтетические знания о предметах, то и канон чистого разума не может быть предназначен для такой цели. Канон чистого разума, согласно Канту, обращен к сфере воли, априорных нравственных законов. По этой причине Кант называет его часто каноном чистого практического разума.
Как если бы мышление в первом случае было функцией рассудка, во втором – функцией способности суждения, а в третьем – функцией разума. Это замечание станет понятным лишь из дальнейшего изложения.
Тождественны ли сами представления и может ли поэтому одно представление мыслиться аналитически посредством другого, мы здесь не рассматриваем. Если только речь идет о многообразном, то осознание одного представления все же следует отличить от осознания другого, и здесь речь идет только о синтезе этого (возможного) осознания.
Аналитическое единство сознания присуще всем общим понятиям, как таковым; например, если я мыслю красное вообще, то этим я представляю себе свойство, которое (как признак) может в чем-то оказаться или может быть связано с другими представлениями; следовательно, я могу себе представить аналитическое единство только в силу мыслимого раньше возможного синтетического единства. Представление, которое должно мыслиться как общее различным [другим представлениям], рассматривается как принадлежащее таким представлениям, которые кроме него заключают в себе еще нечто иное; следовательно, оно должно мыслиться в синтетическом единстве с другими (хотя бы только возможными) представлениями раньше, чем я мог бы в нем мыслить аналитическое единство сознания, делающее его conceptus communis. Таким образом, синтетическое единство апперцепции есть высший пункт, с которым следует связывать все применение рассудка, даже всю логику и вслед за ней трансцендентальную философию; более того, эта способность и есть сам рассудок.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу