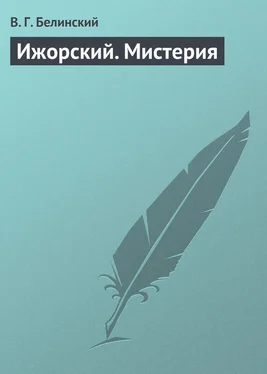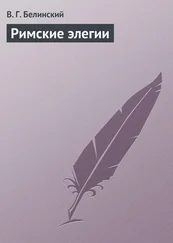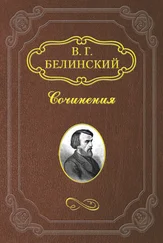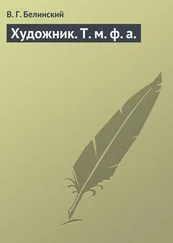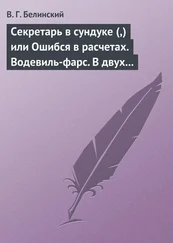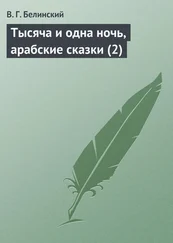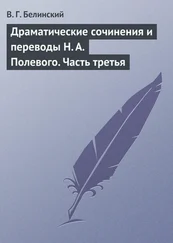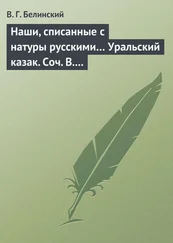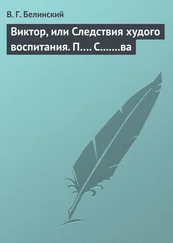Автор представляет какого-то Ижорского, разочарованного человека, тысячу первую пародию на Чальд-Гарольда. Этот Ижорский ничему не верит, ибо во всем разочаровался от нечего делать; страшный Бука, повелитель духов, отдает его во власть проказнику Кикиморе (что-то вроде русского, доморощенного Мефистофеля); этот Кикимора влюбляет его, для собственной потехи, в княжну Лидию; бедняк страдает, удаляется в деревню и делается совершенным отшельником; потом Кикимора влюбляет в него княжну Лидию, но таким образом, что мизантроп с этой минуты охладевает к ней и вымещает на ней свои прежние страдания; как бы желая изведать, точно ли она его любит, говорит ей следующими дурными стихами:
……Одно доверье
Доверье может породить во мне,
И вот вопрос мой вам, сиятельной княжне:
Вы в силах ли презреть высокомерье,
Спесь рода своего, молву и сан отца?
Принадлежать мне до венца
Вы в силах ли?.. Молчишь, бледнеешь… слушай: кто я?
Ценою счастья и покоя,
От роковых, от грозных сил
Драгой ценою я купил
Единственный мой дар: сей дар свобода,
Не святы для меня ни одного народа
Обычьи, предрассудки, бред, и пр.
Княжна обещает и вдруг исчезает, приходит пешком в Петербург, в наряде молодого крестьянина; является к Веснову, молодому человеку с душою и сердцем, который давно уже любил ее, выдает себя за крестьянина Ижорского и предлагает ему вылечить своего барина, к которому Веснов питал энтузиастическое уважение, от его меланхолии. Веснов соглашается. Они приходят оба очень кстати: на Ижорского напали разбойники, и Веснов спасает его. Они живут у него в доме. Кикимора возбуждает в нем подозрение, что казачок Веснова есть пропавшая княжна. Ижорский думает, что она над ним насмехается, закалывает Веснова и бежит с Кикиморою и княжною, которую бросает на дороге спящею. В бедной княжне принимает участие Титания. Наконец Шишимора является Ижорскому в собственном виде и заставляет его низвергнуться со скалы длинною речью, окончание которой заключает в себе смысл всей этой длинной и скучной аллегории. Смысл речи, как отдельная мысль, обнаруживает в авторе человека с умом и чувством, и самые стихи в ней более других одушевлены, хотя и мало отзываются поэзиею. Выписываю ее окончание:
Терзайся, рвися и внемли!
Ты призван был в светило миру,
Был создан солью быть земли:
Но сам раздрал свою порфиру,
С главы венец свой сорвал сам,
Державу сокрушил златую (?)
И бросил часть свою святую
На оскверненье, в жертву псам,
Ты волю буйным дал мечтам;
Межу ты сдвинул роковую
И так в строптивом сердце рек:
«Да будет богом человек!»
Но человека человеком
Везде, всегда ты обретал;
Тогда неистовым упреком
На сына праха ты восстал
И бесом смертного назвал.
Но я твоею слепотою,
Но я бездонной, вечной тьмою,
Грядущим, жребием твоим,
Но я презрением моим
И вечною к тебе враждою
Клянусь, но я клянуся им,
Кого назвать я не дерзаю,
Тебе клянуся и вещаю:
Не беспорочный сын небес,
Могущий, чистый, совершенный,
Не сын же бездны, нет! не бес
Земного мира гость мгновенный.
И сё – неисцелимый яд
В твою раздавленную душу
Волью – и с хохотом обрушу,
Безумец, на тебя весь чад: (??) {2}
Ты червь презренный, подлый ад [1],
Своею дерзостью надменной
Ты стал в посмешище бесов
И в мерзость области священной
Блаженных, радостных духов!
Всего страннее в этой мистерии участие персонажей небывалой русской мифологии. За неимением на Руси духов, автор наделал своих, но, к несчастию, его Бука, Кикимора, Шишимора, Знич, его русалки, лешие, совы и пр. очень плохо вяжутся с гномами, сильфами, ондинами, саламандрами, Титаниею, Ариэлем и пр. Мифология тогда только имеет смысл, поэзию и фантастическую прелесть, когда она есть создание фантазии народа, который питает в своих вымыслах суеверный страх и от души им верит.
Грустно видеть человека с умом, с большею или меньшею степенью образования, человека с уважением к святым предметам человеческого обожания, любящего искусство, – и вместе с тем так жестоко обманывающегося насчет своего призвания, так дурно понимающего значение высокого слова: искусство! Для того, чтоб быть поэтом, мало ума: нужно чувство и фантазия. Делать поэмы может всякий, творить — один поэт. Работа всегда остается работою, как бы ни высока была ее цель. Нет, тот не поэт, даже не стихотворец, не версификатор, кто пишет такими стихами, каковы следующие:
Здорово, милый мой раек!
Здорово, друг партер! мое почтенье, креслы!
Без вас наскучило: препоясал я чреслы,
Взял посох и суму; шел, шел, все на восток —
И наконец прибрел на эти доски.
– А для чего? – кричит Фирюлин, мой Зоил, —
И прежде ты довольно нас бесил;
Твои все шуточки так глупы и так плоски!
И я душой был рад, когда ты объявил,
Что, к прекращенью нашей муки,
Здесь с нами глаз на глаз
Ты видишься в последний раз…
И что ж? опять ты здесь? Где ж плеть и палка Буки?
– Трофим Михайлович, не торопитесь бить;
Позвольте наперед вам доложить:
Бесенок я, а сотворен для дружбы;
Для ней ни от какой не откажуся службы.
Есть друг и у меня, предобрый человек,
Пречистая душа – писатель;
И вот пришел ко мне и говорит: «Приятель,
Преемник твой не то, что ты; он ввек
Со сцены с публикой не вступит в разговоры.
К тому ж угрюмые, косые взоры,
Его коварный, злобный нрав,
Ну, право, созданы не для забав!
А, брат, необходим с партером мне посредник,
Веселый, умный собеседник,
Который бы подчас, как Шекеспиров хор,
Им пояснял мой вздор» [2].
И ну просить и лестными словами
Превозносить меня, хвалить мой ум, мой дар!
Что ж? просьбы и хвалы, – вы ведаете сами, —
Хоть в ком, а породят усердие и шар;
Я к Буке; Бука молвил: «отпускаю»;
И вот я здесь и в должность я вступаю! {3}
Читать дальше