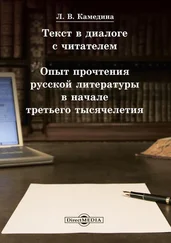. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Из недр народа, в лице державного гения, возникло могущество с идеями разума всемирного и характером творческим, соединяющее в себе нравственное превосходство с политическою диктатурою, с возможностию располагать средствами громадными и неистощимыми. Проникнутое трепетным сознанием опасности, какою угрожали обществу презренные выгоды образованности, преисполнясь глубокою народностью не нравов, а духа, преодолевшего суровые нравы, оно, крепкое давно существующими, хотя и невыказанными нуждами этой стихийной бессмертной народности, разбило вековые преграды и вынесло, так сказать, на плечах своих из тесноты и мрака наши способности, нашу угнетенную, но живую нравственную силу, чтобы поставить их лицом к лицу со всеми высшими задачами и целями истории. Таким-то небычайным способом Россия вошла в свою естественную сферу жизни; ее допустили с почтением к участию в судьбе народов образованных, но не по праву преданий или памяти прежних заслуг, а единственно по праву ее дарований, во имя блестящей будущности, не в пример другим. Сперва движение мысли у нас в науке, в литературе, в обществе казалось шатким и неопределенным: ей недоставало исторического происхождения и материальной фактической опоры в предыдущем порядке событий. Факт удерживал бы ее в границах, но в то же время служил бы ей твердым основанием и убежищем от многих заблуждений, с которыми она встречалась невольно в своем беззаботном странствовании. Но, к сожаленью, она произошла не от фактической породы, а от породы идей, и ей надобно было еще приобрести себе руководителей и опоры в самой жизни, в вещах. Действительно, с пробуждением наших способностей нужды нового, неиспытанного существования возрастали более и более; эти-то нужды должны были заменить для мысли нашей элементы исторические и сделаться ее почвою. Это исполнилось. Мало-помалу в новом преобразованном обществе возникло множество человеческих вопросов, множество отношений, страстей, желаний, которым могла удовлетворять одна мысль. Политическая степень, занятая государством, участие в величайших всемирных событиях, виды нового законодательства, потребности нового гражданского порядка – все это взывало к мысли, требовало ее могучего содействия. Отвсюду объятая интересами жизни, она пустила в них свой корень, начала развиваться, делаться образованностию самостоятельною. Откуда она пришла? чья она? Скоро перестанем мы спрашивать о том: мы только будем гордиться ею, как нашим прекрасным достоянием, несмотря на разительное ее сходство с физиономией Европы и человечества. Изумительное, неслыханное явление, если мы сравним настоящее с прошедшим. Между тем оно есть не более, как возвращение народом того, что он случайно обронил в суматохе пожаров и кровопролитий или что у него украли враги и судьба. Если б можно было чему-нибудь удивиться на земле, то не тому, что мы ныне, а тому, как могли мы с нашими способностями, с славяно-европейским умом и сердцем так долго быть иными. Теперь не время предаваться пустым словопрениям о том, какую бы систему образования следовало нам принять – она решена и принята, не по совету теорий и воле людей, но по воле промысла и непреодолимому влечению национального гения. Мы дети славяно-руссов и Византии; от них мы получили драгоценное наследие – нашу душу и жизнь души, святую православную веру; не менее того мы дети Петра. Он не создал в нас нравственной возможности быть тем, чем ему хотелось, потому что этого люди не созидают. Он сам, напротив, был славяно-руссом и сыном веры в чистейшем смысле этих слов. Но он первый глубоким инстинктом гения понял основные начала нашей народности, несмотря на грубую накипь варварства, наросшую на ней в века татарства; первый измерил наше нравственное могущество, первый уверовал в высокое его призвание и голосом смелым, полным симпатии и надежды, воззвал его к развитию и деятельности. По предметам, по цели, если угодно, по фактам это было новое и чрезвычайное событие, которое история наша по справедливости называет реформою, переворотом; по внутреннему прагматизму мысли это был естественный логический шаг нашей народности, задержанной в своем ходе, но не измененной в сущности ни татарами, ни реформою. Она, эта гибкая, крепкая, энергическая, светлоумная аналитическая народность в самой колыбели своей обречена действовать, как она действует, обречена стереть с лица земли двух завоевателей, одного храброго, другого величайшего, брить бороду, носить модные шляпки и фраки Парижа, читать Байрона, Шекспира, Гёте, Шеллинга и Гегеля, говорить языком Карамзина, Жуковского, Пушкина, Крылова, иметь университеты, академии и гимназии. То, что при других обстоятельствах могло бы произойти и явиться в XV или XVI веке, то явилось в XVIII и XIX – вот вся разница!
Читать дальше



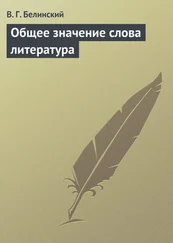
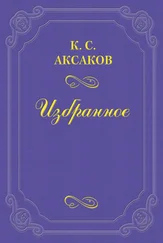
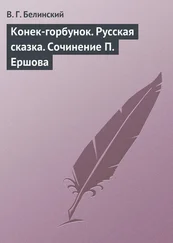
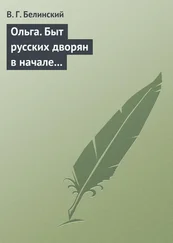



![Абрам Рейтблат - Классика, скандал, Булгарин… Статьи и материалы по социологии и истории русской литературы [litres]](/books/430777/abram-rejtblat-klassika-skandal-bulgarin-stati-thumb.webp)