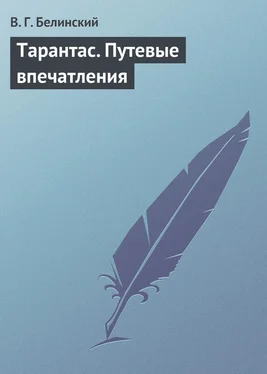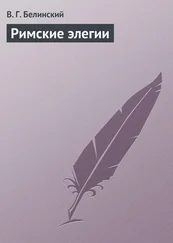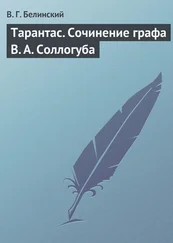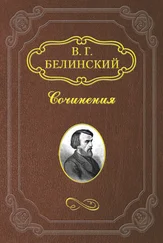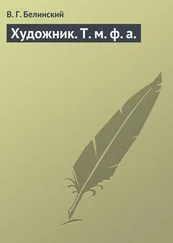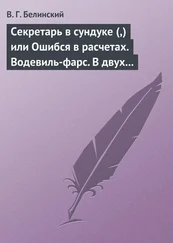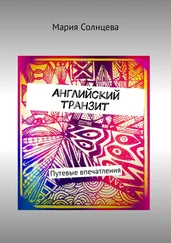Иван Васильевич наговорил очень много хорошего о состоянии, до какого дошли теперь дворянские выборы, и по своему верхоглядству сложил всю вину на богатых дворян (стр. 32). Мы не беремся объяснить это явление и скажем только, что все, что есть или что сделалось, есть и сделалось по причинам неотразимым и с самого начала носило в себе семена своего будущего состояния. Об этом бы и следовало говорить Ивану Васильевичу или ничего не говорить. А иеремиады-то мы слыхали и не от него, и они всем надоели, потому что их способен повторять всякий человек, не умеющий порядочно связать двух идей. Что нового в этих, например, словах Ивана Васильевича? – «Все старинные имена наши исчезают. Гербы наших княжеских домов развалились в прах, потому что не на что их восстановить, и русское дворянство, зажиточное, радушное, хлебосольное, отдало родовые свои вотчины оборотливым купцам, которые в роскошных палатах поделали себе фабрики» (стр. 33). Какая же, по мнению Ивана Васильевича, причина этого важного явления? – «Попромотались на праздники, на театры, на любовниц, на всякую дрянь» (ibid. [7])… Знаете ли, на что похоже подобное объяснение! Вопрос: Отчего умер этот человек? Ответ: «От болезни. – Хорошо; но отчего он заболел и почему он умер от этой болезни, когда другой, у которого была та же самая болезнь, не умер от нее? Но это сравнение еще не совсем верно; человек может умереть от случайности, а случайность не объясняется общими законами; изменение же или упадок целого сословия не может быть делом случайности, – и мотовство тут плохое объяснение. Что праздники, театры и любовницы богачей нашего времени перед роскошью вельмож прошлого века! Однакож им доставало своих средств… Нет; подобный вопрос надо было или решить поглубже и поосновательнее, или вовсе не браться за него. Василий Иванович гораздо лучше решил его. «Что думаете вы о наших аристократах?» – спрашивает его Иван Васильевич. «Я думаю, – сказал Василий Иванович, – что на станции нам не дадут лошадей». {8}
Описание станции превосходно: при каждой строке так и хочется вскрикнуть: «Здесь русский дух, здесь Русью пахнет!» Анекдот станционного смотрителя о генерале прекрасен и сам по себе, и по тому восторгу, в который привел он Василия Ивановича. Описание жилища, или, лучше сказать, логовища, в котором помещается станционный смотритель и в котором так верно, как в зеркале, отражаются его дух, понятия и наклонности, – это описание – верх мастерства, и хотя некоторые нравоописательные романисты, они же и критики, объявили, ради весьма понятных причин, что граф Соллогуб пишет в поверхностном роде {9}, – однако для нас одна страница в «Тарантасе», которая знакомит читателя с покоями станционного смотрителя, в тысячу раз лучше всех нравоописательных и нравственно-сатирических романов. Превосходен также этот вскользь, но верно обрисованный майор, который, в ожидании лошадей, всем говорил «ты» и всем рассказал обстоятельства своей жизни, хотя о них никто у него не спрашивал, и которого Василий Иванович трепал по плечу, приговаривая: военная косточка! (стр. 43). Никем не подозреваемый из чаявших движения лошадей внезапный проезд тайного советника, для которого у станционного смотрителя нашлись лошади, есть истинно художническая черта, которая удивительно верно доканчивает картину «станции». За станциею следует гостиница, но в промежутке этих двух любопытных фактов русской жизни с Василием Ивановичем случилось несчастие: от тарантаса были отрезаны два чемодана и несколько коробов, а с ними пропали чепчик и тюрбан, от мадам Лебур, с Кузнецкого моста, приобретенные для Авдотьи Петровны.
«Приехав на станцию, он бросился к смотрителю с жалобой и просьбой о помощи. Смотритель отвечал ему в утешение: «Будьте совершенно спокойны. Вещи ваши пропали. Это уж не в первый раз. Вы тут в двенадцати верстах проезжали через деревню, которая тем известна: все шалуны живут».
– Какие шалуны? – спросил Иван Васильевич.
– Известно-с. На большой дороге шалят ночью. Коли заснете, как раз задний чемодан отрежут.
– Да это разбой!
– Нет, не разбой, а шалости.
– Хороши шалости, – уныло говорил Василий Иванович, отправляясь снова в путь. – А что скажет Авдотья Петровна?» (стр. 47).
Иван Васильевич торопится во Владимир, которым он, как древним городом, прекрасно может начать свои путевые впечатления. «Я вам уже говорил, Василий Иванович, что я… и не я один, а нас много, мы хотим выпутаться из гнусного просвещения Запада, и выдумать своебытное просвещение Востока» (ib.). И эту дичь Иван Васильевич несет простодушно, без всякой задней мысли… Какой чудак!..
Читать дальше