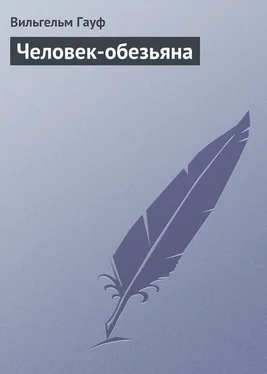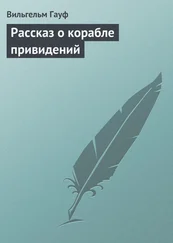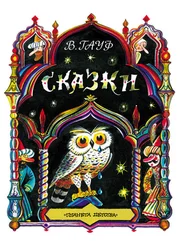– Вовсе нет! Это только латинские буквы, это значит следующее:
И обезьяна ведь забавною бывает,
Когда она от яблока вкушает!
Да, да, это адский обман, вроде колдовства, – продолжал он, – и это нужно примерно наказать!
Бургомистр был того же мнения и тотчас отправился к иностранцу, который, должно быть, был колдуном, а шесть городских солдат несли обезьяну, потому что иностранец должен был тотчас же подвергнуться допросу.
Окруженные громадной толпой народа, так как всем хотелось увидеть, как дело пойдет дальше, они подошли к пустому дому. Стали стучать в дом, звонить, но напрасно, никто не показывался. Тогда взбешенный бургомистр велел выломать дверь и потом пошел в комнаты иностранца. Но там ничего не было видно, кроме разной старой домашней утвари. Иностранца не могли найти. Но на его рабочем столе лежало большое запечатанное письмо, адресованное бургомистру, которое он тотчас и вскрыл. Он прочел:
«Любезные грюнвизельцы!
Когда вы читаете это, меня уже нет в вашем городке, и теперь вы, вероятно, давно узнали, какого происхождения и откуда мой милый племянник. Примите шутку, которую я позволил себе с вами, как хороший урок не приглашать насильно в свое общество иностранца, желающего жить по-своему. Сам я ставил себя слишком высоко, чтобы разделять ваши вечные сплетни, ваши дурные нравы и ваш смешной образ жизни. Поэтому я воспитал молодого орангутанга, которого вы так полюбили, как моего заместителя. Прощайте и по мере сил воспользуйтесь этим уроком».
Грюнвизельцы немало стыдились перед всей страной. Их утешением было то, что все это произошло неестественно. Но больше всего стыдились молодые люди в Грюнвизеле, потому что они подражали дурным привычкам и манерам обезьяны. С этих пор они уж не облокачивались, не качались вместе со стулом, молчали, пока их не спросят, сняли очки и были вежливы и учтивы, как прежде; а если кто когда-нибудь опять усваивал такие дурные и смешные манеры, то грюнвизельцы говорили: «Это обезьяна». А обезьяна, которая так долго играла роль молодого господина, была отдана ученому, имевшему кабинет редкостей природы. Он пускает ее ходить по двору, кормит и, как редкость, показывает ее всякому иностранцу; там ее можно видеть еще и теперь.
Когда раб окончил, в зале поднялся смех, и молодые люди тоже засмеялись.
– Однако среди этих франков есть, должно быть, странные люди! Право, мне приятнее быть у шейха и муфтия в Александрии, чем в обществе главного священника, бургомистра и их глупых жен в Грюнвизеле! – заметил один из них.
– Ты, конечно, сказал верно, – отвечал молодой купец. – Мне не хотелось бы умереть в Франкистане. Франки грубый, дикий, варварский народ, и для образованного турка или перса, должно быть, ужасно жить там.
– Вы скоро услышите это, – пообещал старик. – Как мне говорил надсмотрщик рабов, о Франкистане много расскажет тот красивый молодой человек, потому что он долго пробыл, там, хотя по своему происхождению он мусульманин.
– Как? Тот, который в ряду сидит последним? Право, грех, что шейх отпускает его! Это самый красивый раб во всей стране. Взгляните только на это мужественное лицо, на этот смелый взгляд и красивую фигуру. Ведь шейх может дать ему легкие занятия. Он может назначить его отгонять мух или приносить трубку. Исполнять такую обязанность – пустяки, а право, такой раб – украшение всего дома. Он у него только три дня, и шейх отпускает его? Это глупость, это грех!
– Не порицайте же того, кто мудрее всего Египта! – сказал старик с ударением. – Разве я вам уже не говорил, что шейх отпускает его, думая заслужить этим благословение Аллаха! Вы говорите, что он красив и хорошо сложен, и говорите правду! Но сын шейха – да возвратит его скорее Пророк в отцовский дом! – сын шейха был красивым мальчиком и теперь должен быть тоже большим и хорошо сложенным. Так шейх должен беречь золото и отпускать дешевого, уродливого раба, в надежде получить за него своего сына? Если кто на свете хочет что-либо сделать – тот лучше совсем не делай или делай хорошенько!
– Но посмотрите, взоры шейха все время устремлены на этого раба. Я замечал это уже весь вечер. Во время рассказов его взор часто устремлялся туда и останавливался на благородных чертах отпускаемого на волю раба. Все-таки ему, должно быть, немного жаль отпускать его!
– Не думай так об этом человеке! Ты думаешь, что тысячи туманов жаль тому, кто каждый день получает втрое больше? – сказал старик. – А если его взор с грустью останавливается на этом юноше, то он, вероятно, думает о своем сыне, который томится на чужбине. Он, вероятно, думает, нет ли там, может быть, сострадательного человека, который выкупил бы его и отослал к отцу.
Читать дальше