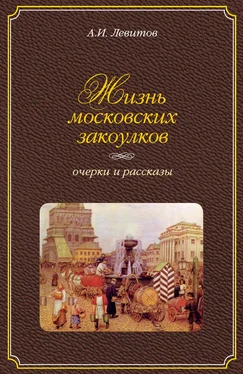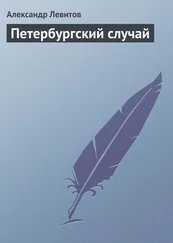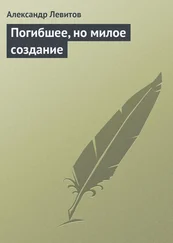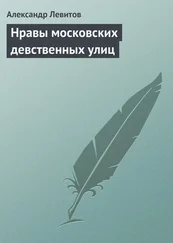– На вот, бабушка-голубчик, продай кому-нибудь, – и при этом кринолин, в сильном замешательстве, сует старухе потертый бумажник. – Я вот только папироски выну.
– Самое, надо полагать, кто-нибудь также обманул, вот и разжалобилась, – говорит закутившая чуйка {114}. – Сейчас умереть, я теперь эту самую девку всем сердцем моим возлюбил!.. Эй, милая, сядь-ка к нам, воротись!
Кринолин послушно возвращается к столу кутилы и садится.
– Можешь ли ты понимать честь? – спрашивает чуйка девушку.
– Могу, – отвечает она без запинки.
– Так ты ее и понимай! Я с нонешнего дня даю тебе содержанья десять рублев кажинный месяц. Донскова!
– Чудесно! – лютуют припевалы. – Андрей Ильич, уважь, милый человек, попляши!
– Умеешь плясать? – спрашивает у девушки раззадоренный Андрей Ильич.
Еще бы не умела плясать крымская старостиха, эта Волга-девка, увенчанная стразовой диадемой!
– Ярославка, што ли? – спрашивает Андрей Ильич, ухарски драпируясь для предстоящей пляски своей синей чуйкой.
– Оттуда были! – отвечает старостиха, воодушевляясь лихими манерами Андрея Ильича.
– Ну, мы с Дона!
Густая толпа окружает их.
– Валяй Спирю почаще! – кричит Андрей Ильич музыкантам, и при первых коленах его в воздухе повисли и дружный хохот, и загвоздистая похвала.
– Дашка! не выдай московских-то! – умоляет старостиху оборванный кузнец, первый крымский плясун, в сапожных обрезках. – На свою сторону приедет, хвастать будет: никто-то де его не переплясал у нас, – поощрял он Дашу, дрожа и замирая в лихорадочном волнении.
Гикает и гогочет, как казак в бою, Андрей Ильич, и за ним все гикают и гогочут, потому что ровно огненный змей жжет и палит он всех своей жаркой пляской степной. Вприсядку сел он, так-то и кружит, – кружит и соловьем голосистым свистит. Полштоф целый по самым маленьким рюмкам одному можно было бы разобрать в то время, как он козловыми каблуками крымский пол бороздил. А она, старостиха эта, все голубкой, голубицей такой ласковой вьется около него, словно с крыльями.
– Где такая девка родилась? – кричат.
– Э-эх, кабы не бедность!
А она все вьется около Андрея Ильича. Вилась, вилась так-то она, да платьем своим голову казачью вдруг всю и закрыла – и посмеивается.
Тут и вспомнил «Крым», что это за мужик такой Спиря, смешливый Спиря мужик: всякому он норовит ногой нос утереть.
Близким громом загремел «Крым», когда вспомнил про Спирю.
– Вот он какой, Спиря-то! – орут двадцать голосов.
– Тут, брат, огнем не возьмешь!
– А возьмешь тут смешками.
– Вер-рно! Молодец Даша!
– Истинно лучше! – шумно соглашается с толпой казак. – Только же не может женщина ничего лучше нашего брата сделать… Валяй степную, братцы! – кричит он музыкантам. – На барыню переворачивай!
Замерли все. Тишь, как в могиле, стояла, когда первая скрипка на квинте потянула свое протяжное вводное: и-и-я-ах!..
Молнией сверкнул на струне первый слог огненной песни. Дружно подхватили его другие скрипки, контрабас и звонкие флейты; но всех их заглушил своим ахом запылавший Андрей Ильич – и пошел…
Сыплется частая дробь, будто осенний дождик в стекло, воет Андрей Ильич неудержным ветром степным и прет в толпу черными глазами, так что дыхание у всех захватило, страх обуял.
– Ступнуть не дам, девка! – злобно и страстно кричит он уничтоженной Даше. – С белого света, как былинку, сдую!
– Братцы! – умоляет кузнец-плясун, – кричите скорее: ура! Где ж нам – московской гольтяпе – по-евойному…
– Ур-рра-а! – берут враз сто грудей.
– У-р-ра-а! – подхватывают сидящие за столами.
И летит это «ура», как какая грозная буря, в другую залу, увлекая за собой все дышащее в трактире, оттуда стремится на крыльцо, на вольный воздух и, здесь схваченное извозчиками, пронизывает собой густой мрак осенней ночи и наконец тихо улегается на липовых вершинах соседних бульваров, распугивая усевшихся на ней грачей и ворон…
– Тише, господа, пожалуйста, потише! – уговаривает публику седой приказчик, – полиция, пожалуй, придет, что толку?
– Поди ты, старый черт! – азартно отвечают ему.
– Ласточка ты моя! – нежно говорил старостихе Андрей Ильич. – Уж где тебе тягаться со мной! потому вряд ли кто на сем свете и может со мной потягаться…
Старостиха, слушая его, была такая смирная, такая ласковая.
Все дело, следовательно, в моих глазах по крайней мере, остановилось на следующем: «Крым» бесновался и неистовствовал, мой приятель свысока смотрел на этот спектакль, а я, облокотясь на стол, рыдал болезненно о всем «Крыме» и злился на приятеля.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу