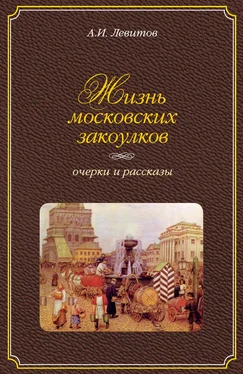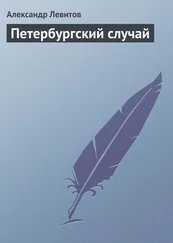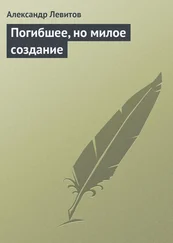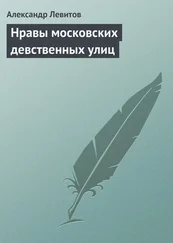Тишина поразительная царствует в этой гостиной, точно так же, как и на улице, на которую смотрит она своими двумя окнами, та же тишина. Яростное чириканье двух больших воробьиных стай, насмерть разоравшихся, вероятно, за исключительное обладание девственной улицей, даже как бы усиливает всеобщую мертвую неподвижность местности.
Без конца долго, а особенно посытнее поевши, можно сидеть на мягком кресле под окном в столешниковской гостиной и оттуда молчаливо и неподвижно, как каменная статуя, смотреть на эту улицу с деревянными домами, – на баб, лица которых пылают пожаром двенадцатого года, с мокрыми вениками под мышками бредущих по траве, – на разношерстных котят, целыми гнездами обитающих в этой траве, и, наконец, на молодого еще и потому несколько дурковатого будочника, который, кажется, для того и жительствует в будке, чтобы сражаться с кошачьими стаями и угощать забористым нюхательным табаком маленьких девчонок и ребятишек.
Обнимает человека во время такого смотрения какая-то сладкая, отрешающая от всяких мирских попечений, дрема. Смотришь, смотришь так-то, а они – эти обыденные, заученные наизусть картины, все идут, – идут так тихо, так плавно, что непременно из самой глубины души созерцателя вытянут такие смирные речи:
– Господи! да из чего же это люди бьются-то на белом свете? Из-за чего же это они друг друга едят? Сели бы вот так-то, сложили бы ручки, да и сидели; поглядывали бы посмирнее на тишину-то Господнюю. Чего бы им лучше этого блага!..
Но бьется сердце, даже самое смирное, против жизненной всасывающей тины до тех пор, пока можно биться, пока есть в нем силы и горячая кровь. Редкого, разумеется, не засасывает тина; но тем не менее, если мы согласимся с Расплюевым – всякую битву называть игрой, то, конечно, вместе с тем должны сказать и то, что эта игра есть самая азартная из всех игр, какую только приходится человеку разыгрывать в этой жизни.

Воскресный торг на Трубной площади. Фотография начала XX в. из книги «Москва в ее прошлом и настоящем». Государственная публичная историческая библиотека России
Я потому собственно распространяюсь на эту тему, чтобы вы, введенные мной в гостиную Столешникова, не испугались ее тишины и не спросили бы меня:
– Да зачем же вы привели нас сюда? Здесь и жизни-то нет никакой. Что мы там смотреть будем?
Тут-то вот и начнется моя заслуга как нравоописателя, когда я разуверю вас в вашей ошибке, рассказав вам, что в этом, по-видимому, окаменелом царстве была игра, угомонившая человека, – каков был этот человек до своего угомона, как и что именно угомонило его, и чем наконец он живет теперь, смутно предчувствуя, что вот-вот скоро эту смирную, всегда одно и то же показывающую улицу поразнообразит погребальная процессия, с уходом которой покончится все – и не будет тогда ни воздыханий о своей жизни, проведенной у косящета окна, ни печалей о том, что люди едят друг друга, – печалей, как вы уже видели, непременно налетающих на голову, полюбившую процесс глядения на однообразные картины девственных улиц.
С этой точки зрения я и отрекомендую сейчас Марфу Петровну, жену Онисима Григорьича, которая прежде всего бросается в глаза, при входе в гостиную. Эта, еще достаточно свежая, но молчаливая и часто вздыхающая о чем-то, старуха хоть и редко когда в настоящее время о чем-нибудь разговаривает, но нам, надеюсь, она, без особенных просьб с нашей стороны, распишет должным образом и свою гостиную, и ту жизненную игру, какую она сыграла в ней.
«Что этой у меня силы было, что красоты, когда я невестой считалась, страсть!.. – Так обыкновенно начинает рассказ про свою жизнь Марфа Петровна, когда человек умеющий натолкнет ее на этот рассказ. – Бывало, в крещенские морозы, какие подруги к обедне в шубах идут, какие в салопах, а я себе качу в одной ватной шимовочке {273}– и щеки у меня, пожалуй, что всех алее были. И возилась я в это время неустанно, от ранней зари до поздней ночи, за каким-нибудь делом, потому сталкивало меня что-то с места, ежели случаем сесть приходилось, – жилы во мне так и говорили все. Нечего ежели делать, так полы мыть принималась, – как стеклушко у нас были полы завсегда. И было для меня это время самое трудное, потому и наяву, и во сне все это тебе женихи представляются, все это тебя тревожит что-то и в сумление вводит… Грешница перед Богом! Видючи так-то, как там иные прочие по соседству жен-то за косы таскают, так я мужиков этих никогда очень-то не жаловала, а тут взмолилась; «Господи! мол, да пошли же ты мне мужа какого-нибудь, – все бы мне с ним, может, полегче стало». Мечешься, мечешься, бывало, по постели-то, а в спальне жара страшная, духота, тишь! Всю тебя эдак разморит, – не приведи Царица Небесная! Так я теперича полагаю, что эта боль всем болям голова!
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу