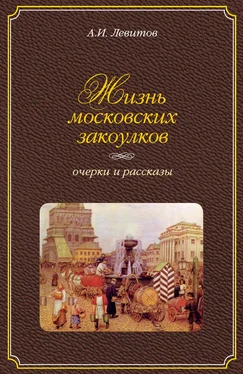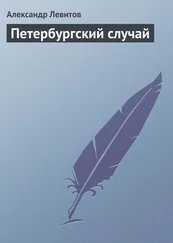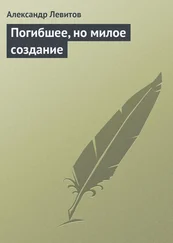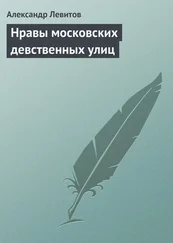– О чем ты просишь? Молчи – и иди!
И я шел… я шел; но с каждым шагом становилось бремя мое тяжелее и тяжелее, и всю человеческую, так долго и страстно горевшую и страдавшую, кровь мою охватило непреодолимое желание – спать, спать и спать…
Намереваясь сейчас как можно рельефнее вылепить для вас так часто встречающийся в Москве тип человека, подверженного запою, я для того, чтоб осветить должным светом его больную голову, сокрушенную губительной тяжестью того венка, который налагает на нее не древний, изящный Вакх, а просто-напросто всероссийский кабак, – для этого я прежде всего изображаю гостиную Онисима Григорьевича Столешникова, временного московского купца, занимающегося устройством загородных пикников, подрядами на свадебные и похоронные обеды и вдобавок снабжающего бедный люд деньжонками под залог и за умеренные проценты, как назидательно рассказывают об этом поучительные «Ведомости Московской городской полиции».
Изображать гостиные подобного рода людей нам не привыкать стать; рисуя их принадлежности, вовсе не заботишься о тонкости и нежности штрихов, какими г-дам Зотовым и их последователям необходимо было чертить те благовонные будуары, где в таинственном и возбуждающем на всякую поэзию полусвете, на удобно пригнанных для этой поэзии кушетках и козетках полулежали различные princess'ы и comtess'ы. С видом прогнанных чрез водоочищающую машину Марсов стояли в тех гостиных безусые корнеты Ледины и Гремины, – стояли и говорили те, если можно так выразиться, маркизски-умные речи, от которых во время оно так сладко надрывались брильянтовые сердчишки наших барышень и которые лично мной названы «глупыми до разврата». Писать про такие нежности я не умею. Для серебряного рейсфедера, которым непременно малевалась сия умилительная пошлость, слишком грубы ручищи Ивана Сизого.
– Что же такое? Всякий человек в своей сфере действовать должен! – сказал недавно в кабаке один прогоревший купец, когда ему объяснили, что вот он теперь прогорел и сидит в кабаке, а компаньон его приобрел и валяет теперь шампанское в соседнем трактире.
Должным образом постигая глубокий смысл этого изречения, я смиренно действую в своей сфере и говорю, что гостиная Онисима Григорьевича была совсем в другом роде: она, говоря грамматическими определениями г-на Греча {271}, «есть не что иное», как необходимая принадлежность тех каменных с деревянными антресолями домов, которых так много на московских девственных улицах. Я не имею в виду планировать вам передний и задний фасады самого дома, потому что выстроило его тщеславие человека, который добился наконец в свою долгую, трудолюбивую жизнь того счастья, какое у французов определяется многозначительным словом: мещанское счастье, а у нас не менее многозначительной пословицей: себе при жисти, про свое доброе здоровье, опосля смерти – за упокой души, – добился, говорю, и оборудовал себе дом, Господу Богу на славу, добрым людям на удивление и крепкую зависть!.. Следовательно, много их, таких домов, пугающих воображение, не настроенное специально на достижение мещанского счастья, своими красными, растреснувшимися кирпичами, тусклыми окнами, завешенными в посторонне-наемных квартирах грязными юбками, заставленными ситцевыми подушками, с облезлыми собаками у разбитых как бы бомбами калиток и проч. и проч. Повторяю: много их, таких домов, красноречивее, чем Писемский {272}, характеризует нигилистов, говорящих про себя: меня выстроило мещанское счастье с тем, чтобы посредством меня грабить и убивать и без того ограбленную и убитую столичную бедность…
Итак, я проведу вас мимо этой обыденной домовой физиономии, не рекомендуя ее вашему вниманию. В наши глаза и без того ежесекундно мечется слишком много и горя, и пошлости, – горя, тем невольнее разнимающего на горький смех, что оно от себя зависит, – пошлости, тем безлогичнее мирящей вас с собой, чем ваша логичность более прирождена вам и чем честнее она развита в вас, потому что пошлость эта не от себя зависит…
Конечно, вы теперь поняли, что и гостиная Онисима Григорьича не составляет нити завязки моего романа, и если я иду туда и веду вас с собой, так делаю это, во-первых, для того, чтобы, как говорится, ловчее подъехать к самому делу, а во-вторых, главным образом для того, чтобы в этом купеческом домицилии, сравнительно с нашей постоянно колеблющейся и, как уже сказано, взбаламученной почвой, гораздо реже и тише обуреваемом, отдохнули глаза, заслепленные до режущих и кровавых слез безалаберной толкотней русского базара, на котором, по его собственной пословице, все с рук сходит, – и успокоилось сердце, изнывшее от страшных воплей многоразличных жертв, попавших как-нибудь ненароком под тяжелые, ухарски раскатившиеся базарные колеса…
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу