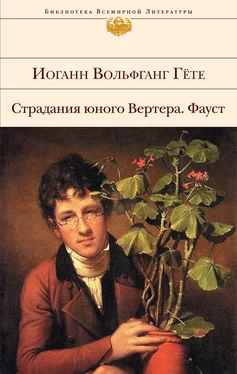Ведь я все тот же, но раньше я упивался всей полнотой ощущений, на каждом шагу открывал рай, и сердце имел достаточно вместительное, чтобы любовно объять целый мир. А теперь мое сердце умерло! Оно больше не источает восторгов, глаза мои сухи, чувства не омыты отрадными слезами, и потому тревожно хмурится чело. Я страдаю жестоко, ибо я утратил то, что было единственным блаженством моей жизни, исчезла священная животворная сила, которая помогала мне созидать вокруг меня миры! Теперь я смотрю в окно и вижу, как солнце разрывает туман над дальними холмами и озаряет тихие долины, а мирная река, извиваясь, бежит ко мне между оголенными ивами, и что же? – Эта дивная природа мертва для меня, точно прилизанная картинка: и вся окружающая красота не в силах перекачать у меня из сердца в мозг хоть каплю воодушевления, и я стою перед лицом божьим, точно иссякший колодец, точно рассохшаяся бадья! Сколько раз падал я ниц и молил господа даровать мне слезы, как землепашец молит даровать дождь, когда небо так беспощадно, а земля истомилась от жажды. Но, увы! Я знаю, бог дает дождь и ведро не по нашим исступленным мольбам, и недаром терзает меня память о тех блаженных временах, когда я терпеливо ждал, чтобы дух его снизошел на меня, и всем признательным сердцем моим принимал благодать, изливаемую им на меня!
Она укоряла меня за невоздержанность, но как же ласково и бережно! А невоздержанность моя в том, что я иногда соблазнюсь стаканом вина и выпью целую бутылку. «Не делайте этого! – сказала она. – Постарайтесь думать о Лотте!» – «Думать! Неужто вам надо приказывать мне это, – возразил я. – Думаю я или не думаю – все равно вы всегда стоите перед моим духовным взором. Сегодня я сидел на том месте, где вы недавно выходили из кареты…»
Она перевела разговор, чтобы прекратить мои излияния. Любезный друг, я погиб! Она вертит мною как хочет!
Благодарю тебя, Вильгельм, за сердечное участие, за доброжелательный совет и прошу лишь об одном – не тревожься. Дай мне перетерпеть! Как я ни измучен, у меня достанет силы выстоять. Я чту религию, ты знаешь это; я понимаю, что многим павшим духом она служит опорой, многим отчаявшимся – утешением. Но может ли, должна ли она быть этим для каждого? Оглянись на мир, и ты увидишь, что тысячам людей религия, будь то католическая или протестантская, помощью не была и не будет, – так почему она должна помочь мне? Ведь говорит же сын божий, что те лишь пребудут с ним, кого дал ему отец! А что, если я не дан ему? Что, если, как подсказывает мне сердце, отец хочет меня оставить себе? Прошу тебя, не истолкуй этого ложно, не усмотри глумления в искренних словах моих! Ведь я раскрываю перед тобой всю душу; а иначе мне лучше было бы молчать, ибо я вообще неохотно говорю о том, что всякий знает не больше моего. Выстрадать всю положенную ему меру, испить всю чашу до дна – таков удел человека. И если господу, сошедшему с небес, горька была чаша на человеческих его устах, зачем же мне проявлять гордыню и притворяться, будто для меня она сладка? И зачем мне стыдиться в тот страшный миг, когда все существо мое содрогается между бытием и небытием, когда прошедшее, точно молнией, озаряет мрачную бездну грядущего, и все вокруг гибнет, и мир рушится вместе со мной? И как же загнанному, обессилевшему, неудержимо скатывающемуся вниз созданию не возопить из самых недр тщетно рвущихся на волю сил: «Боже мой! Боже мой! Для чего ты меня оставил?» И мне ли стыдиться этого возгласа, страшиться этого мгновения, когда его не избег тот, кто свивает небо, как свиток?
Она не видит, не понимает, что сама готовит смертельную отраву для меня и для себя: и я с упоением пью до дна кубок, который она протягивает мне на мою погибель. Отчего она часто… часто ли?.. Пусть не часто, но иногда смотрит на меня приветливым взглядом, отчего так благосклонно принимает невольные проявления моего чувства, отчего на лице ее написано сострадание к моим мукам?
Вчера она, прощаясь, протянула мне руку и сказала: «До свидания, милый Вертер!» Милый Вертер! В первый раз назвала она меня милым, и я затрепетал. Сотни раз повторял я про себя эти слова, а вечером, ложась спать и болтая всякую всячину сам с собой, сказал внезапно: «Покойной ночи, милый Вертер!» – и даже сам потом посмеялся над собой.
Я не могу молиться: «Оставь мне ее!» – хоть мне и кажется часто, что она моя. Я не могу молиться: «Дай мне ее!» – она принадлежит другому. Я мудрствую над своими страданиями; если бы я не обуздывал себя, сравнениям и сопоставлениям не было бы конца.
Читать дальше