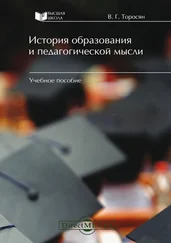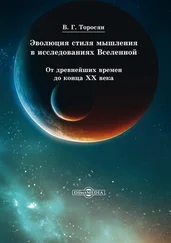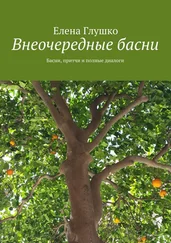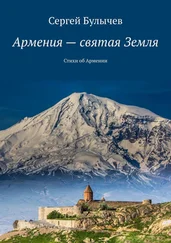Если мы вместе с Мхитаром выйдем за круг чисто ремесленнических взаимоотношений и споров о первенстве, имеем ли мы право не отметить глубоко общественную мысль Мхитара, что вообще всякий человек, а далеко не только ремесленник имеет тем большее право на почет, чем больше степень его полезности для hасаракац, в любом значении этого слова: для простонародья, для общества, для всех?
Как бы ни было, какой бы тончайший оттенок мы ни пытались усмотреть в мотивировке первенства кузнеца в басне «Кузнец и медник», основная мысль исчерпывающе ясна и выражена ярко. Но еще ярче эта же мысль выражена в другой басне Мхитара, в басне о споре кузнеца, плотника и земледельца, которых рассудил сам Александр Македонский (79).
Спор был между железоделом, плотником (буквально дереводелом) и земледельцем. В основу решения, как видно из текста басни, положены были два, отчасти взаимно перекрывающихся признака: первый — кузнец полезен плотнику и земледельцу, а сам он, предполагается, может обойтись без плотника и без земледельца; второй — кузнец сам производит для себя орудия производства и обеспечивает орудиями производства и плотника и земледельца, из которых последний зависит, в отношении орудий производства, не только от кузнеца, но и от плотника. Сомнений в правильности упора на «производство орудий производства» быть не может, так как в тексте стоит слово горци , которое и в древнем, и в новом армянском языках означает орудие производства, будучи по корню связано с именем гори, 'дело, 'работа’ и глаголом горцел 'делать', тем самым глаголом, именная форма от которого налична и в названиях всех трех тяжущихся — железодел, дереводел, земледелец.
Много важнее вопрос, почему Мхитар дважды возвращался к праву кузнеца на первенство и оба раза подтверждал это право. Только ли потому, что его убеждала та или другая мотивировка; или потому, что право кузнеца пользоваться почетом особенно оспаривалось в это время; или же кузнецы проявляли особую настойчивость, добиваясь каких-то привилегии, преимуществ; или же, наконец, были иные причины, побуждавшие Мхитара подтверждать первенство кузнеца ссылками на разумные, материальные и каждому доступные для проверки основания? Тут не могло влиять на Мхитара уважение к какой-либо традиции или к ссылкам на давность и древность явления: мы знаем, что Мхитар нашел форму, чтобы высмеять такого рода ссылки на извечность, на незапамятную древность, изобразив беседу между старцами, увлекшимися своими воспоминаниями — воспоминаниями «старожилов».
Считывая положение кузнецов у самых разнообразных народов Востока как в Передней, так и в Средней Азии, не так уж трудно если не разъяснить, то хотя бы нащупать, почему Мхитар мог считать нужным подтвердить право кузнеца на первенство в ряду других ремесленников.
Кузнец-подковщик является одновременно коновалом. Кузнец вообще зачастую соединяет в себе железодела и знахаря. Кузнец бывает озарен и славой «ведуна», быть может потому, что очень уж многообразен и различными оттенками сверкает огонь в его горне. У кузнеца нередко бывают в народном представлении какие-то неясные связи с неясными, но не небесными силами. И потому кузнец и пользуется весом в своей деревне, а иногда и по всей округе, и часто воспринимается как такое лицо, с которым не следует быть в плохих отношениях.
А в армянском фольклоре, в древних письменных свидетельствах и в совсем недавнем быту кузнец является, помимо всего сказанного, еще и выполнителем ответственнейшей магической функции, укоренившейся до степени полного слияния с наслоенными на нее и языческими, уже не магическими, а легендарными, историческими и мифологическими представлениями и даже христианскими верованиями. Еще совсем недавно в армянской, разумеется деревенской, среде кузнец каждую пятницу, заканчивая свой трудовой день, должен был трижды крепко ударить молотом по своей ничем не занятой наковальне. Звон этих ударов был в не меньшей мере признаком, что деревня — армянская, чем заунывный отрывистый звон церковного колокола в субботний вечер. Не так легко было бы ответить на вопрос, что вызвало бы большее смущение в христианской среде в любой армянской деревне, молчание ли в субботу церковного колокола или деревянного била (если колокольный звон был воспрещен), или же тишина в кузнице при заходе солнца в пятницу. Ведь эти три удара молотом по ничем, на взгляд непосвященного, не занятой наковальне укрепляет звенья цепи, которою в преисподней был прикован нечестивый Артавазд, [2] Моисей Хоренский, II, гл. 51.
звенья цепи, в течение шести дней каждой недели становившейся тоньше и слабее от стачивавшего ее лизания языками мифических «аралезов» и к вечеру в пятницу уже почти готовой разорваться; да она и разорвалась бы, если бы каждый кузнец-армянин не укреплял бы ее по пятницам своими тремя ударами молотом по наковальне.
Читать дальше
![Вардан Айгекци Басни средневековой Армении [без иллюстраций] обложка книги](/books/422672/vardan-ajgekci-basni-srednevekovoj-armenii-bez-il-cover.webp)

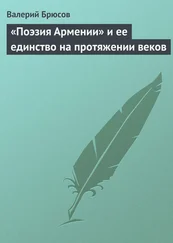


![Вардан Айгекци - Лисья книга [сборник басен]](/books/266113/vardan-ajgekci-lisya-kniga-sbornik-basen-thumb.webp)
![Василий Ключевский - Русская история. 800 редчайших иллюстраций [без иллюстраций]](/books/266665/vasilij-klyuchevskij-russkaya-istoriya-800-redchajshih-thumb.webp)