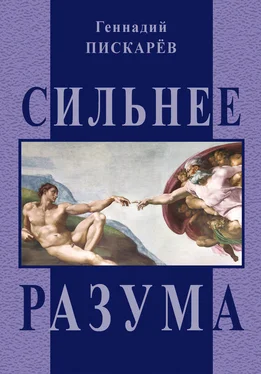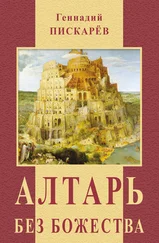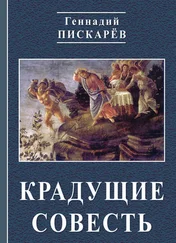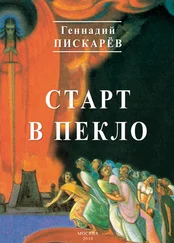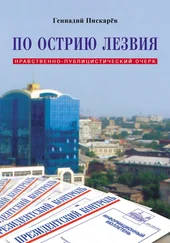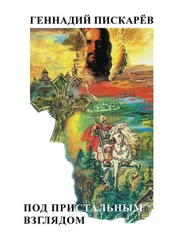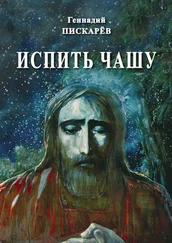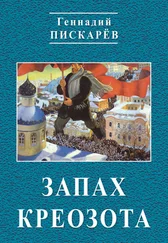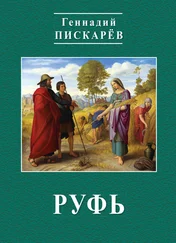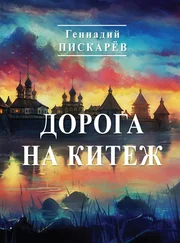Быть может, кому-то и не покажется красивой и романтической жизнь доярки Н.К. Лукьянченко из совхоз «Заречный», что в Северо-Казахстанской области. Сама же Надежда Константиновна иного мнения, и вот уже три десятилетия мерит она тропинку к ферме, куда пришла совсем молоденькой.
Не каждому и не сразу удается почувствовать, осознать в начале пути своего, что ты и труд твой незаменимы. И если ты это понял и принял сердцем, если чувства любви и долга слились у тебя воедино, можно смело сказать: жизнь удалась. Удалась она и у Н.К. Лукьянченко. которая не может представить себе ее без каждодневных хлопот. Видно, из них-то и складывается счастье. И она, Надежда Константиновна, во всех отношениях человек счастливый. И в крестьянском деле своем, успехи в котором отмечены знаками отличия высшей пробы, и в людском уважении, и в семейной жизни. Трое старших детей уже вышли на самостоятельную дорогу, трое помаленьку подрастают.
Четкое мироощущение, понимание своего назначения характерно, можно сказать, для всех представленных в двухтомнике тружеников.
От степени порядочности даже одного умелого человека, как известно, зависит многое.
И в значительной мере возрастает влияние этого человека на окружающих, если он наделен еще и властью, объединяет, организует работу Не потому ли с таким интересом читаются очерки о руководителях колхозов и совхозов, бригад и цехов, специалистах. Перед нами проходит целая плеяда сельских организаторов производства. Это и председатели колхозов В.М. Ткачук и А.И. Дубко, первый секретарь райкома партии И.М. Курбанов и бригадир совхоза В.А. Беляев и многие другие. Читая о них, и потому как бы находясь рядом с ними, вновь и вновь убеждаешься: успехи той или иной отрасли во многом зависят от того, кто ее возглавляет, от эффективности работы руководителя. У героев обеих книг она проявляется и в глубокой потребности их в экспериментировании, и в неуемной жажде выявлять возможности человека на земле. Зачастую озабоченные экономическими расчетами, они ни на минуту не забывают о так называемой неучтенной силе – духовном потенциале. Они умеют создать вокруг себя климат высокого сознания и чувство ответственности за общие интересы. Гордое слово этих умудренных жизненным опытом людей – людей крепкой закалки, твердых убеждений и взглядов – звучит очень кстати, когда заходит речь о высоком призвании земледельцев.
И это мудрое, умное слова переданное в очерках авторами, как и славные дела героев, о которых они поведали безусловно, найдут добрый отклик в сердцах читателей.
И сердце бьется в упоенье
С этой возвышенности, называемой Шаровой горой, Полотняный завод просматривается как на ладони. Одноэтажные домики, утонувшие в буйной зелени, фабричные трубы, рассекающая на две части поселок лента реки Суходрев. В ее светлых водах отражаются подернутые зеленым инеем прибрежные ивы, много повидавшие на своем веку старые липы.
Когда-то с этой же самой Шаровой горы увидел Полотняный завод Пушкин. Над речкой в ранний утренний час клубился белый пар, в соседней деревне раздавались хлесткие щелчки пастушьих кнутов, горланили петухи. Все было точно так, как писала ему в письмах Натали. Не ее ли рассказами навеяны эти стихи:
«Румяной зарею
Покрылся восток.
Вдали за рекою
Потух огонек».
Радостно встретила Александра Сергеевича его невеста – Наталья Николаевна Гончарова, обходителен и учтив был с поэтом ее дед – владелец Полотнянозаводской бумажной фабрики Афанасий Николаевич Гончаров. Первые впечатления о фабриканте вселили Пушкину надежду, что он сможет разрешить при помощи «состоятельного дедушки» и свой финансовые затруднения перед судьбой. Но Гончаров, имевший не одно имение, прекрасную оранжерею, оркестр из крепостных крестьян, конный двор, псарню, вскоре дал понять Александру Сергеевичу, что рассчитывать на какую-либо подмогу ему не следует.
С горьким чувством в конце мая 1830 года покидал Пушкин полюбившийся ему поселок. Неприятный осадок после разговора с Афанасием Николаевичем, дорожные неудобства сглаживали воспоминания о встрече с двумя степенными мещанами из Калуги, которые, прослышав о приезде поэта, пришли в Полотняный пешком, чтобы засвидетельствовать Пушкину глубочайшее почтение за его необычайный талант. Долго беседовал с ними Александр Сергеевич, а на прощанье подарил автограф: «Александр Пушкин с чувством живейшей благодарности принимает знак лестного внимания почетных своих соотечественников Ивана Фомича Антипина и Фаддея Ивановича Абакумова. 27 мая 1830 гола. Полотняный завод».
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу