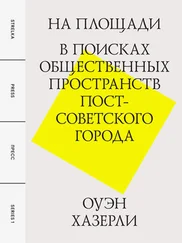Наряду с языком и текстом существовали и другие, менее общезначимые основания для семиотического теоретизирования. Одним из таких оснований метафорического осмысления культурного поведения оказывается театр – например, в концепции театрального деятеля Н.Н. Евреинова, пробовавшего свои силы в культурологическом теоретизировании и, позже, в теории выдающегося социолога Ирвина Гофмана, лишь оттолкнувшегося от метафоры театра применительно к социальному поведению и его интерпретации. Гофману принадлежит анализ основных типов метакоммуникативных сообщений, встроенных в интерпретацию реальности (Гофман 2003); в конечном счете, именно к этой логике восходят представления о том, что люди не только производят те или иные действия, а одновременно демонстрируют друг другу осмысленность этих действий – в том числе свое понимание данного места.
В публичном пространстве люди вроде бы не обязательно вместе. Эту особенность в свое время сформулировал Жан-Жак Руссо в своем письме Даламберу о театре: люди, собравшиеся в театральном зале, могут думать, что они вместе, но на самом деле они ограждены друг от друга. Они находятся в одном пространстве и, в принципе, могли бы общаться и что-то делать вместе, но это не значит, что они действительно вступают друг с другом в эксплицитное и осознанное взаимодействие. Фокус их внимания обращен к зрелищу на сцене, а не друг к другу.
Между тем, находясь в одном пространстве, невозможно не коммуницировать, даже если ты и не собираешься никому ничего сообщить своим присутствием, внешним видом и поведением. По Гоффману, характерное для публичных мест в западной культуре «вежливое невнимание» предполагает, что незнакомые люди, если только они не стремятся вступить в контакт, ведут себя так, как принято незнакомым людям: встретившись глазами, отводят взгляд и стремятся избегать смущения, вызываемого случайным вторжением в приватность ближнего. Другое дело, что у разных мест даже в рамках одной культуры нормальными оказываются разные уровни этого невнимания. Так, Джейн Джекобс, описывая пространство улицы «хорошего» жилого квартала, отмечает как значимую его черту то обстоятельство, что поведение детей на улице всегда оказывается под присмотром соседей, которые сделают подростку замечание и, возможно, удержат его от опрометчивого поступка (Джекобс 2011: 94–95).
Культуры различаются тем, насколько естественным в них считается заговорить с незнакомым человеком в публичном пространстве. Такое общение может быть сколь угодно благожелательным, но остается тем не менее анонимным. Это черта современного публичного пространства: соблюдая приличия, им могут пользоваться «все», то есть представители разных социальных (этнических, сословных, религиозных) групп. Здесь они встречаются и анонимно взаимодействуют, иногда ни слова не говоря друг другу, а просто находясь в одном месте. Такая общедоступность и «демократичность» пространства обеспечивает пестроту толпы пользователей, только в большом городе достижимый градус разнообразия. Этому многообразию способствует и обилие общедоступных мест и заведений – от кафе и парков до музеев, галерей, театров и магазинов. Заметим, что это исторически и культурно конкретная характеристика: публичное пространство такого рода – предназначенное для зрелищ, увеселения и коммерции, где архитектура выступает как декорация, а витрины – как рамки зрелища, и где пользователи выходят на людей посмотреть и себя показать, – появляется менее двух веков назад. Возможностям пространства способствует и искусственное освещение (начиная с ХХ века – электрический свет): оно не только позволяет эффективнее следить за порядком, но и продлевает время, которое человек может провести на улице и в магазинах (McQuire 2008). Электрический свет, как указывает Маршалл Маклюэн, и сам выступает как медиум по отношению ко всему, что происходит в пространстве благодаря освещению.
Хотя мы и называем эти места общественными, публичное и приватное в них не разделены – в том смысле, что и на площади друзья, стоя в кругу, образуют своим разговором и расположением вполне приватную пространственную конфигурацию. Оказавшись в публичном месте, люди зачастую «разбивают лагерь», присаживаются, чтобы заняться своим делом на этой временно оккупированной территории. Разложив свои вещи и тем самым маркировав это временное «свое», они не ожидают чужих за своим столиком, отодвигаются от соседа по скамейке, а прежде чем «приземлиться», спрашивают уже сидящего рядом, не возражает ли он.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
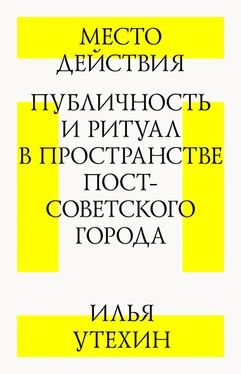

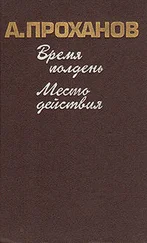
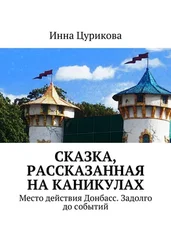
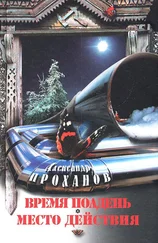
![Анна Шилкова - Мострал - место действия Постон [СИ]](/books/412232/anna-shilkova-mostral-mesto-dejstviya-poston-si-thumb.webp)
![Анна Шилкова - Мострал - место действия Ленсон [СИ]](/books/412233/anna-shilkova-mostral-mesto-dejstviya-lenson-si-thumb.webp)
![Анна Шилкова - Мострал - место действия Иреос [СИ]](/books/412234/anna-shilkova-mostral-mesto-dejstviya-ireos-si-thumb.webp)