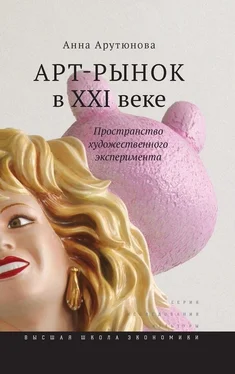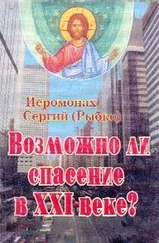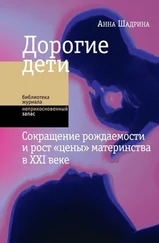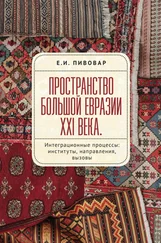После кризиса 2008 г. вопреки ожиданиям и даже надеждам многих игроков рынка, которые в один голос заявляли о ненормальном, перегретом его состоянии, рост аукционных цен продолжился как ни в чем не бывало. 2013 и 2014 гг. удивили сразу несколькими абсолютными рекордами: триптих Фрэнсиса Бэкона был продан за 143,4 млн долл., «Серебряная автокатастрофа» Энди Уорхола – за 105 млн долл., оранжевая «Надувная собака» Джеффа Кунса – за 55 млн долл. (установив тем самым рекорд цены на работу живущего художника). Парад аукционных побед продолжился в 2014 г.: 80 млн долл. за этюды Фрэнсиса Бэкона к портрету друга художника Джона Эдвардса, 84,2 млн долл. за работу «Black Fire 1» («Черный огонь 1») Барнетта Ньюмана.
Отметка в 100 млн долл. – уникальная, невиданная для рынка искусства, да и просто для любого человека – сегодня уже не воспринимается в аукционных кругах как нечто небывалое. На сегодняшний день кажется, что все вернулось на круги своя. Аналитики, как и несколько лет назад, предупреждают о существенных рисках и отмечают противоречивую тенденцию – аукционы бросили все свои силы на работу с произведениями, стоимость которых может превысить 10–20 млн долл., а значит, сделали ставку на спекулятивное развитие рынка, на самый дорогой, или, как принято говорить на аукционном жаргоне, топовый, сегмент. Причем в этот сегмент начинают все чаще попадать имена художников, чья карьера началась сравнительно недавно. По данным все той же ArtTactic, «барометр спекуляции» поднялся за 2013 г. на 4 %, в то время как 60 % опрошенных экспертов оценили его в 7 баллов (при шкале от 1 до 10). «Эксперты выражают обеспокоенность количеством краткосрочных инвесторов и спекулянтов, которые толкают цены вверх, и в особенности на работы молодых, начинающих художников, добившихся заметных успехов в 2013 г.», – подводит свой лаконичный итог ArtTactic.
А какой вывод из этих цифр можем сделать мы? Во-первых, рост рынка в целом и рынка современного искусства в частности вовсе не прекращался на время кризиса, напротив, шел даже быстрее, чем до него. Рост выглядит особенно странно на фоне продолжающихся дискуссий вокруг сокращения финансирования культуры и искусства во многих странах Европы и Америки. Он говорит о том, что деньги сосредотачиваются в руках отдельных людей, частных лиц, что имеет последствия не только для кривой роста цен (в количественном смысле положительные), но и для судьбы современного искусства в целом (не всегда однозначные [4]). Во-вторых, объемы рынка гораздо больше в численном выражении, чем нам это представляют графики. Ведь за бортом остается информация о частных сделках. А их сегодня тоже заключается немало, и некоторые ничуть не уступают по своим сенсационным суммам аукционным. Так, в 2013 г. завершилась драматичная история продажи полотна Пабло Пикассо «Мечта». Картина, на которой изображена возлюбленная и муза художника Мари-Терез Вальтер, долгое время принадлежала Стиву Уинну, владельцу казино в Лас-Вегасе. За ней долго охотился другой Стивен – Стивен Коэн, хедж-менеджер, прославившийся на весь мир тем, что купил «ту самую» акулу Хёрста за 12 млн долл. (работа 1991 г. называется «Физическая невозможность смерти в сознании живущего» и представляет собой чучело тигровой акулы в огромном резервуаре с формальдегидом). В 2006 г. Коэн и Уинн договорились о сделке – работа Пикассо должна была сменить владельца, но во время своего рода прощальной вечеринки с «Мечтой» Уинн, по неосторожности, повредил холст. На реставрацию ушли годы, а частная сделка состоялась только в 2013 г. и составила почти 158 млн долл. Еще одна многомиллионная и при этом частная сделка 2013 г. – продажа картины Барнетта Ньюмана «Свет Анны» (1968). Минималистская по сути (работа представляет собой монохромный красный холст) и максималистская по масштабам (почти три на шесть с лишним метров; это самая большая картина, сделанная Ньюманом), она была продана за 107 млн долл. Продавцом выступила одна из старейших японских фирм по производству красок, пигментов и биохимикатов DIC Corporation, выставившая картину в собственном музее перед тем, как с ней расстаться. Покупатель остался неизвестным.
Из цифр, передающих бурный рост арт-рынка и семизначных сумм, можно сделать и другой, не количественный, а качественный вывод. Правда, качество в данном случае будет скорее со знаком минус. Рост цен (и в особенности на аукционах) привел к укреплению ложного представления об искусстве как о сфере инвестиций. В таком контексте искусство начали преподносить уже давно (в середине XX в. уже выходили журналы, объясняющие финансовые преимущества покупки произведений), но спекулятивный характер рынка современного искусства сделал воображаемую связь между произведением и инвестицией прочной как никогда. Сегодня для огромного количества покупателей работа художника имеет смысл главным образом как вложение средств (по крайней мере, так ответили 76 % опрошенных Art-Tactic покупателей искусства). Для армии экономистов, занятых подготовкой аналитических обзоров рынка, тот факт, что искусство как никогда упрочило свой финансовый имидж, является положительной тенденцией и ведет к развитию отдельной сферы финансов, обслуживающей новые интересы новых клиентов.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу