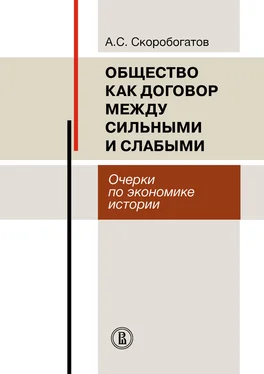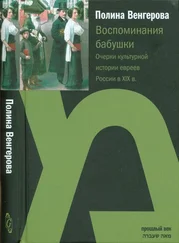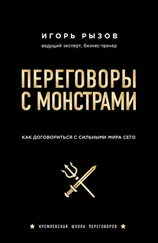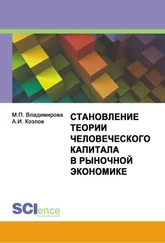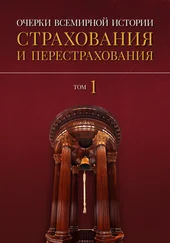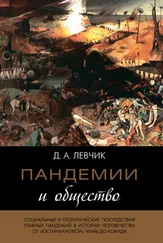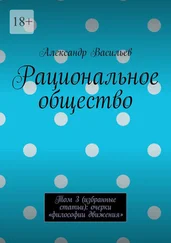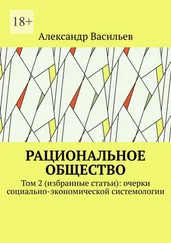Однако некоторые историко-экономические идеи, развитые в рамках западной экономической науки, получили определенную известность. Связаны они не столько с экономической историей, сколько с экономикой истории – разработкой теоретической схемы для организации исторических фактов, относящихся ко всем сферам общественной жизни. Это было вызвано, с одной стороны, все большим осознанием прошлого как кладезя законов, управляющих современностью. С другой стороны, этому способствовала универсализация экономической теории как метода анализа общественных явлений, выразившаяся в том, что в поле ее зрения попали процессы, протекающие как в сфере хозяйства, так и в сфере культуры, политики, социальных иерархий и т. д.
Универсализация экономической науки наметилась с зарождением современной неоклассической теории после маржиналистской революции, в результате которой она вышла за рамки своей традиционной предметной области, связанной с материальным производством, став абстрактной логикой рациональности. Поскольку действовать рационально, т. е. пользуясь наилучшим из возможных способов достижения поставленной цели, человек пытается не только в хозяйственной жизни, экспансия экономической науки в изначально чуждые ей предметные области была логичным следствием такой трансформации ее метода.
Общая логика неоклассического подхода к анализу функционирования и развития экономики
Однако изначально неоклассическая теория развивалась в таких жестких методологических рамках, которые затрудняли для нее изучение реальной истории [1] Основные разделы данной главы излагались в моей статье [Скоробогатов, 20116 ].
. Речь идет о допущениях, образующих ее «защитный пояс», которые можно свести к характеристикам среды хозяйственной деятельности:
• совершенство и однородность естественной среды;
• совершенство и однородность институциональной среды.
Первое допущение исключает негативное влияние природных факторов и предполагает равенство возможностей, задаваемых территорией. По-другому данное допущение можно обозначить как допущение о постоянной отдаче от естественной среды, означающее, что рост населения не влияет на удельные издержки жизнеобеспечения человека. Дело фактически представляется так, как если бы вся земля была совершенно одинакова в плане выгодности ведения хозяйства и существует в бесконечном количестве. Допущение о нейтральности территории по отношению к экономике во многом объясняет внеисторический характер экономической теории.
На заре истории экономической науки принималось допущение об убывающем плодородии почвы, которое позволяло учесть разницу в возможностях, проистекающую из различий территории. Предполагалось, что земля, будучи неоднородной по плодородию, может быть соответствующим образом ранжирована и тогда занимающие лучшие участки будут получать чистый выигрыш от преимуществ занимаемого участка. Начиная с Рикардо такой выигрыш от преимуществ в условиях производства обозначается как рента [Рикардо, 1993, гл. 2–3; Блауг, 1994, с. 82–83].
Хотя неравенство возможностей, задаваемых территорией, понималось так узко и увязывалось исключительно с условиями земледелия, этого, вкупе с железным законом заработной платы и теорией ренты Д. Рикардо, оказалось достаточно для построения модели исторического развития. Согласно этой модели, ход экономической истории определяется степенью сельскохозяйственного освоения земли. При наличии некоего запаса земли сохраняется возможность расширения производства и связанной с этим чистой прибыли. Это доставляет трудовому населению некий излишек сверх минимума средств существования, который они, в согласии с железным законом, расходуют на увеличение своих семей, вызывая рост населения и тем самым усиление давления на ресурсную базу. По мере исчерпания земельных ресурсов будут исчерпываться возможности экономического роста и будет приближаться «стационарное состояние» – состояние экономики, исключающее дальнейший рост.
Как на наступление стационарного состояния влияет неравенство в распределении ограниченных земельных ресурсов? Поскольку это неравенство связано с неоднородностью занимаемых разными экономическими агентами участков земли в плане их плодородия, на данный вопрос можно ответить, рассуждая от противного, т. е. допустив однородность земельных участков. Чисто теоретически имеющиеся земельные ресурсы могли бы быть распределены равномерно среди населения в случае их полной однородности по плодородию. Тогда рост населения, вызывая последовательное расширение распашки, не сопровождался бы убыванием плодородия и соответствующим падением нормы прибыли, если отвлечься от возможности дополнительных вложений в уже используемые участки.
Читать дальше