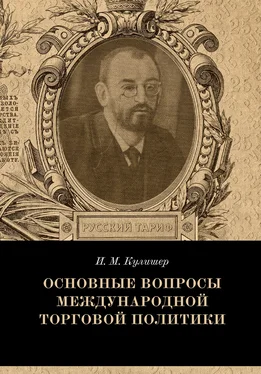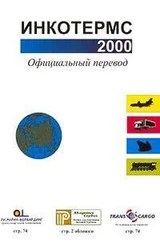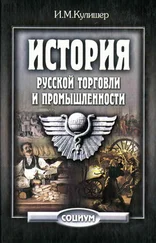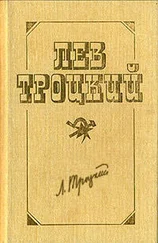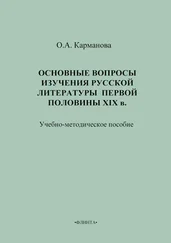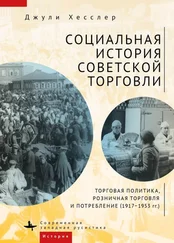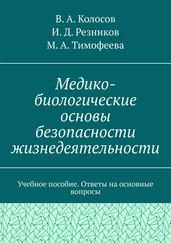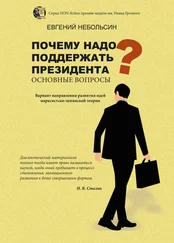Швейцария в 80—90-х гг. не увлеклась протекционизмом, напротив, все усилия ее были направлены к тому, чтобы сдержать порывы ее соседей. «Будучи маленькой континентальной страной с тяжелыми условиями существования, с малоплодородной почвой, без морских портов и без колоний, – заявлял в 1892 г. Нума Дроц в своей «поистине перикловской» речи, – Швейцария вынуждена приобретать значительную часть нужных населению для жизни предметов за границей. За это она может платить лишь изделиями своей промышленности. Уже в течение 20 лет ей ставятся всяческие препоны. Нас готовы по-прежнему снабжать всевозможными продуктами, но нашим товарам отрезают путь… Швейцария имеет право и обязанность всеми силами бороться с этими поползновениями… Европа в своих же интересах поручила Швейцарии охрану альпийских и юрских горных проходов, задачу, которая обременяет Швейцарию крупными расходами… Но мы должны сказать своим соседям: не задавите нас, вы, великие и могучие, своими таможенными барьерами! Дайте нам жить. Это наше право, которое мы добыли своей кровью и уважать которое требует и справедливость, и ваш собственный интерес».
Однако стены, воздвигаемые другими странами и тесным кольцом окружившие Швейцарию, заставили все же и ее реагировать на эти стеснения ее экспорта, тем более что Швейцария вводила строгую охрану труда на фабриках и заводах, удорожавшую производство. Но будучи втянута в протекционистское движение, Швейцария держалась весьма осторожно, ограничиваясь немногим не только в тарифе 1887 г., но и в следующем за ним тарифе 1892 г. Нужно было лишь остановить чрезмерный наплыв иностранных изделий, которые, под влиянием перепроизводства, двинулись на новые рынки и грозили погубить швейцарскую промышленность; необходимо было позаботиться о развитии новых отраслей производства, так как старинные, ставшие как бы второй натурой швейцарского населения промыслы не могли выдержать новой конкуренции крупных промышленных государств. Хлопчатобумажная промышленность, шелкоткацкая, шелкокрутильная, производство вышивок не могли иметь будущности; их экспорт не мог удержаться на прежнем уровне, и их должны были заменить новые отрасли производства, о которых до сих пор мало заботились, – выделка шерстяных и льняных изделий, платья и белья. Эти промыслы могли рассчитывать на широкий рынок внутри страны, но для этого нужна была поддержка в течение известного переходного периода, пока они крепко станут на ноги. В сельском хозяйстве усиленное производство мяса должно было возместить сокращающийся экспорт швейцарских сыров.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
Melon. Essai politique sur le commerce. 1796.
Смит А . Исследование о природе и причинах богатства народов. Кн. I. Гл. IV.
Там же. Кн. II. Гл. V.
Индустрия обращения (франц.). – Прим. ред.
Индустрия для формирования обращения ( нем .). – Прим. ред.
Schär. Handelsbetriebslehre. 1921.
Dunoyer. Liberte du travail. Vol. II.
Courcelle-Seneuil. Traite deconomie politique. Vol. I. P. 256.
Roscher. Nationaloekonomie des Handels und Gewerbefleisses. 7. Aufl. S. 73.
Colson. Cours deconomie politique. Vol. IV. 1903. P. 4.
Clerget. Manuel deconomie commerciale. 1909. P. 8.
Такое же определение встречается у некоторых русских экономистов: торговля – «промыслообразное занятие покупкой и продажей товаров с целью получения прибыли» (Исаев А. А. Начала политической экономии. 3 изд. С. 507). Торговля – «перепродажа хозяйственных предметов без существенного их изменения, с целью получения барыша» (Туган-Барановский М. И. Основы политической экономии. 2 изд. С. 276).
Переходную ступень между обоими направлениями составляют такие авторы, как, например, Леруа-Болье (Leroy-Beaulieu. Traite theorique et pratique deconomie politique. 1896. Т. III. P. 13). Он называет торговлю «la systematisation de lechange» [систематизация обмена (франц.) – ред.]; но затем прибавляет, что «случайные действия», которые когда-то выполнялись с большими затруднениями всеми членами общества, превращаются в постоянную специальную функцию, переданную некоторым из них и поглощающую целиком или почтя целиком деятельность последних».
Читать дальше