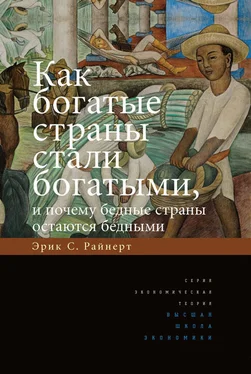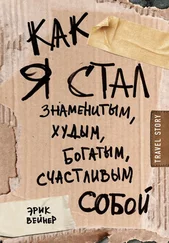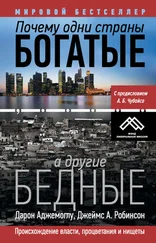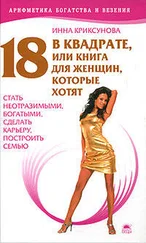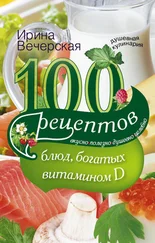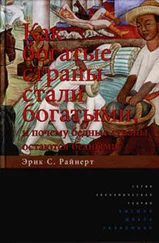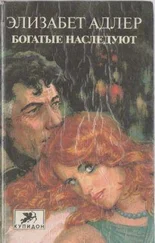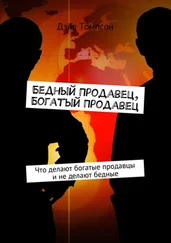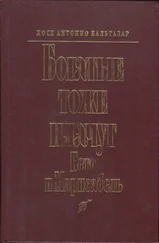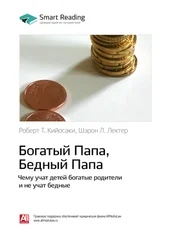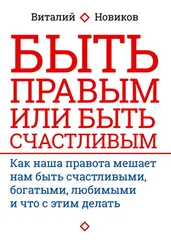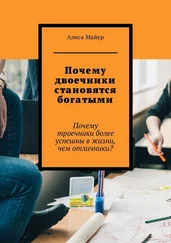Производство, специализирующееся на сырьевых товарах и не доросшее до возрастающей отдачи и общего блага, способствует созданию феодального политического строя. Однако и без него государство продолжает изымать экономический излишек, как это делалось при колониализме, и почти ничего не давать взамен; так происходит в африканских странах. В таких условиях докапиталистический производственный и политический строй оказывается чрезвычайно живучим, и этому, вероятно, есть причины. Один из консультантов президента Танзании Джулиуса Ньерере, швед Йоран Хюден, когда-то писал о непокорном крестьянстве Африки. НАТО и Запад сегодня стоят перед проблемой «непокорного крестьянства» в Афганистане. Я предполагаю, что социализм Ньерере в Африке провалился по той же причине, по которой провалились действия НАТО и Запада в Афганистане. Все дело в экономическом строе.
Развитие, которое разорвало описанный Ибн Халдуном круг получения ренты, мы в главе III определили как одновременное развитие разделения труда и отраслей промышленности с возрастающей отдачей. В присутствии этих видов деятельности капитал стал активом для сельской местности, и наоборот: национальное государство перестало быть игрой с нулевой суммой. Со времен Жана-Батиста Кольбера известна лишь одна формула создания национальных государств — индустриализация, инвестиции в инфраструктуру и создание свободной торговли в пределах страны. После того как эти условия выполнены, можно делать следующие шаги.
Несколько месяцев назад норвежский Институт стратегических исследований пригласил Эдварда Луттвака, известного воинствующего и консервативного вашингтонского республиканца, на семинар в Лиллехаммере — городе, где в 1992 году проводились Олимпийские игры. К моему удивлению, оказалось, что Луттвак всегда был против войны в Ираке. «Знаете, — сказал он мне, — один чиновник из Министерства обороны в 2003 году, как раз перед началом войны в Ираке, назвал меня расистом только потому, что я сказал, что не верю, что уничтожение Саддама поможет продвинуть в Ираке демократию».
Луттвак, прекрасно зная историю, придерживался того же мнения, что и Бэкон с Марксом, — проблема не в расе, а в экономическом строе. Однако из-за того что европейцы запретили развивать обрабатывающую промышленность в колониях, где было мало белых людей, в то время как колонии, где белых было много, индустриализовались и получили независимость, раса кажется значимой в вопросах развития. На второй день пребывания в Перу я встречался с президентом Белаунде (эта встреча описана в главе I). Президент только что вернулся из поездки в изолированную область страны в глубине перуанских лесов. В этой области, куда можно попасть только на вертолете, жили немецкие поселенцы, приехавшие после Первой мировой войны. Хотя они были преимущественно белокожими и голубоглазыми, жили точно так же, как остальные. Много лет спустя я попал в бразильский штат Риу-Гранди-ду-Сул, где немецкие поселенцы, которых было больше, чем в Перу, создали обрабатывающую промышленность и богатство. Вновь цитируя Фрэнсиса Бэкона, скажу: «Есть огромная разница между жизнью людей в каком-либо наиболее культурном краю Европы и в какой-нибудь наиболее дикой и варварской области Новой Индии… И эта разница происходит не от почвы, не от климата, не от телосложения, а от наук (т. е. от профессий, принятых в этих местах)».
И все же у нас есть причины для оптимизма. Менталитет и институты относительно быстро меняются вслед за экономическим строем. Английские путешественники в начале XIX века не увидели в Норвегии, этой отсталой стране пьющих крестьян, никаких возможностей для развития. Однако 50 лет спустя оказалось, что они были неправы. Дэвид Ландес, гарвардский экономист, приводит в качестве примера цитату из газеты «Japan Herald» за 1881 год: «Мы не думаем, что Япония когда-либо разбогатеет: этому препятствуют преимущества, дарованные природой, а также любовь японского народа к праздности и удовольствиям. Японцы — счастливая раса, и, будучи удовлетворенными тем немногим, что имеют, они вряд ли многого достигнут» [255] Landes David . The Wealth and Poverty of Nations. New York, 1988. P. 350.
. Причина и следствие в процессе развития были расставлены по местам еще Иоганном Якобом Мейеном в 1769 году: «Известно, что не сначала примитивные народы улучшают свои обычаи, а потом открывают полезные виды хозяйственной деятельности, а наоборот». Смена менталитета приходит со сменой способа производства.
Читать дальше