Европейская мысль охотно признаёт и даже оправдывает неизбежность присутствия зла в человеке — возможно, потому, что христианская традиция не признаёт за человеком способности самостоятельно одолеть свою греховную природу. Европейская политическая мысль никак не может примирить силу с добродетелью, пусть даже на латыни эти слова пишутся почти одинаково. Напротив, китайское стратегемное мышление всегда отстаивало единение силы и добродетели, даже если это единение относится больше к области идеальных представлений, нежели к реальному положению дел.
Тот, кто поборол своё корыстное «я» и открыл в своём опыте небесную глубину, умиротворён и безмятежен. Ещё Конфуций называл непременной чертой высоконравственного мужа его непоколебимое спокойствие, а вечную озабоченность чем-то считал, наоборот, верным признаком душевной низости. Сунь-цзы тоже заявляет, что полководец должен быть «покоен» и «прям». Покой приходит тогда, когда нет беспокойства о своей личной судьбе. Прям тот, кто способен объять собою весь мир. Таков китайский мудрец — тот, кто убирает себя в себя, и так пред-оставляет ( фан ) всему пространство быть. Убирая себя из мира, он вбирает мир в себя. Мир расцветает в зеркале просветлённого сердца. И тот, кто дал ему расцвести, не трогает его цветов. Для мудрого стратега величественное цветение жизни — само по себе высшая награда.
Вот так для китайцев пространство стратегического действия есть духовное поле воли, пространство «опустошённого сердца», высвобожденное, расчищенное от завалов предметности опыта усилием «самоустранения». Это по сути своей виртуальное пространство предвкушаемой жизни — лишённое протяжённости, но всеобъятное, опознаваемое внутри себя и потому моральное, хотя и лишённое субъективности.
Подчеркнём, что жизнь в пустоте не подразумевает аскетического умерщвления чувственной природы. Пустотности бодрствующего сознания китайского мудреца-стратега соответствует, как уже говорилось, отнюдь не пустыня абстракций, а, напротив, царственное богатство бытия, «жизнь преизобильная» творческого духа. Не случайно в китайской культуре со временем развился тонкий вкус к эстетизации решительно всех моментов чувственного восприятия, всех проявлений телесной интуиции и всех деталей человеческого быта, к выстраиванию цельного и всеобъемлющего образа «изящной жизни». Достаточно даже краткого знакомства с интерьером китайского дома, с китайским садом или пейзажной живописью, чтобы убедиться: китайцы умели ценить свойства всякого материала и любить жизнь «во всех её проявлениях». Предметная среда в китайском доме и саде складывается в бесконечно сложную паутину символических «соответствий» (в том числе, конечно, и литературных), и дух вольно скитается в этом пространстве непрерывного «самообновления» бытия, вечной свежести жизни, никогда не достигая пресыщения, постоянно пере-живая самого себя.
Мудрость китайского стратега есть, помимо прочего, необычайно обострённое чувствование эстетических качеств жизни. Но его чувствительность в конечном счёте означает внимание к за-предельному в опыте, чувствование сокровенной глубины предсуществования, где река жизни растворяется в бездне вечности. Тот, кто живёт «семенами» вещей, живёт вечнопреемственностью духа.
Равным образом непрозрачность правителя, стратега, учителя для окружающих не имеет ничего общего с нарочитой скрытностью. Речь идёт о строгой размеренности и выверенности поведения, отсутствии в нём каких бы то ни было излишеств и крайностей, уклонений от «срединного пути», которым удостоверяются вечноживые свойства вещей. Это поведение приводит все душевные состояния и наклонности к полному равновесию и поэтому предстаёт как бы лишённым отличительных качеств. Но оно — психологический прообраз «круговорота Пути» и устремлённости к «срединному пределу», составляющих смысл управления в Китае. Оно исполнено огромной аффективной силы.
Правитель-мудрец открывает себя бездне неисчислимых перемен. В этом он утверждает свою свободу и свою мужественность. Как сказал Чжуан-цзы:
Малый страх делает робким.
Великий страх делает свободным.
Есть великая загадка в том, что для мудреца, «убравшего мир», поистине умершего для мира, мир открывается всем великолепием своих форм, красок и звуков: «все вещи проходят передо мной в своём пышном разнообразии, и я созерцаю их возврат к истоку», — сказано в «Дао-Дэ цзине». В этом огромном и красочном мире мудрый пестует великую беспристрастность: он идёт «срединным путём», в силу своей безупречной сосредоточенности не выказывая никаких качеств, ничем себя не выдавая. У него нет ни воспоминаний, ни надежд — такова его плата за усилие само-превозмогания. Все вещи для него — только отблески вовек сокровенной и неизречённой глубины его просветлённого понимания. Он сливается с несотворённым Хаосом. И, усвоив себе ужасающую мощь бытийственного рассеивания, прильнув к первозданной подлинности жизни, он с истинно царской щедростью дарит людям сокровище «единого сердца» — источник доверия и любви между людьми. Отринув в себе всё «слишком человеческое», он становится «по-небесному человечным».
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
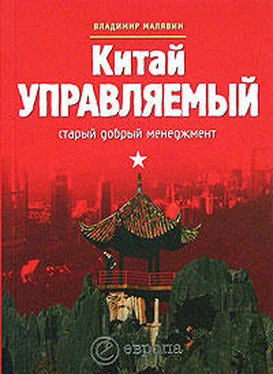




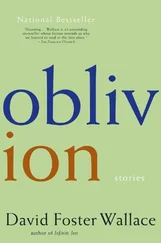
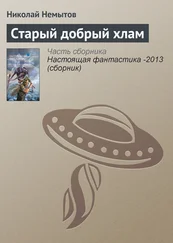
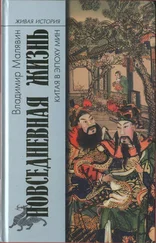


![Владимир Малявин - Китай управляемый [старый добрый менеджмент] [litres]](/books/406250/vladimir-malyavin-kitaj-upravlyaemyj-staryj-dobryj-thumb.webp)

