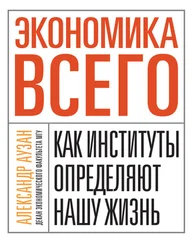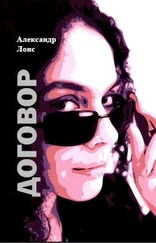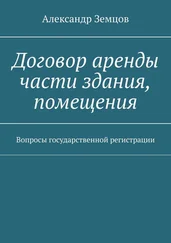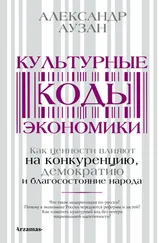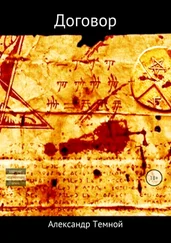Посмотрите, как в прошлых политических циклах это решалось. Понятно, в чем раздел власти, связанный с тем, что расселись на разных ветвях. Коммунисты получили в парламенте большинство, а антикоммунисты получили исполнительную власть в 1995–1996 гг. В 1999–2000 гг. — да, проиграла определенная группа номенклатуры. Но как проиграла? Сохранив губернаторские посты, влияние в Совете Федерации, парламентскую фракцию. Понятно, чем гарантируется их участие во власти. А теперь? Непонятно. Поэтому я бы сказал, что разделение властей сейчас — б о льшая головная боль для самой власти, потому что иначе она задачку не решит. А наша проблема, мне кажется, связана немного с другим.
Давайте опять вернемся к случаю с введением системы ЕГАИС. Если взглянуть на подкладку событий, там все очень просто. Есть фирма, производящая некий программный продукт, которой нужно было сделать рынок. Какой хороший рынок — алкогольный! И эта фирма легко, вопреки мнению правительства и Министерства экономики, организует себе рынок, как в свое время фармацевтические фирмы организовали себе рынок через монетизацию льгот.
Т.е. глубинная проблема не в отсутствии разделения властей, а в том, что у нас нет разделения бизнеса и власти. Поскребешь бизнес — обнаруживаются административные ресурсы. Потрешь власть — начинает проступать денежная мотивация. И разделить эти вещи между собой можно, только как-то втиснув туда общество с его запросом на то, что нужно от государства. Поэтому то, о чем я буду говорить дальше, исходит из достаточно классической схемы. Экономисты обычно не говорят про разделение властей или говорят мало. Экономисты говорят, что государство — по существу агентство для производства таких продуктов, как правосудие и безопасность, в обмен на налоги.
На самом деле это не только правосудие и безопасность. Но давайте начнем с этого. Потому что для общества, если говорить о разделении властей, первый пункт — не отсутствие самостоятельности парламента или правительства, а ситуация с судебной властью. Понятно, почему. Потому что судебная власть — это единственная власть, которая защищает человека от государства и которая защищает или перераспределяет права собственности. Вообще это то, что дает наиболее жизненный результат как для человека, так и для экономики. Эту судебную власть мы исследовали в рамках большого проекта, где мы не проводили массовых опросов населения, мы работали с фокус-группами, с углубленными интервью с теми сообществами, которые живут в этой судебной системе (это исследование Института гражданского анализа и Института национального проекта «общественный договор»). К каким результатам мы пришли?
Первое, что мы обнаружили, я бы сказал — «феномен гардеробщика». Есть история 70-х гг., что в МГУ в гардеробе первого корпуса гуманитарных факультетов работал гардеробщик, который брал взятки за поступление. Причем это была беспроигрышная лотерея, потому что он возвращал взятку, если человек не поступал, и не возвращал, если человек поступал. Такого «гардеробщика» мы обнаружили на входе в судебную систему.
Оказывается, представления людей о судебной коррумпированности преувеличены, не в этом главная болезнь судебной системы. Юридическая корпорация окружает судебную систему и таким образом обеспечивает себе доходы. Как в других сферах действует такой «бюрократический капитал», «капитальная бюрократия» (я не знаю, как это назвать), так и здесь, но здесь она играет роль «гардеробщика». Вот что они делают. Если адвокат говорит клиенту: «Мои услуги стоят столько-то», то клиент отвечает: «Нет, это дорого, я не буду платить». Тогда адвокат: «Надо судье взятку передать». Без вопросов: «Пожалуйста, вот деньги». Причем потом их можно не возвращать даже при проигранном деле, потому что адвокат скажет: «Те дали больше, перебили». Клиент говорит: «Понимаю».
Этот феномен гардеробщика известен в институциональной экономике под названием «феномен Ольденбурга». Он был обнаружен в Индии, где тоже была сильно преувеличена коррупционность. Посредники брали эту «дань». Но на самом деле он создает неверное представление о главных проблемах. Он создает представление о том, что суд можно купить, вопрос — в количестве денег. Оно не такое уж неверное, если бы мы с вами вели разговор пять лет назад. Потому что пять лет тому назад именно от этого начинались разговоры о точке отсчета в судебной реформе.
Глава высшего арбитражного суда того времени на всех семинарах рассказывал один и тот же анекдот, объясняя ситуацию и намекая, на самом деле, на выход из нее. К судье приходит секретарь и говорит: «Ваша честь, у нас проблема. Ответчик дает 130 тыс., а истец дает 100 тыс. Что будем делать?» Судья говорит: «Верните 30 тыс. ответчику, и будем решать дело по закону». Тогда, когда было представление о том, что судебная власть устроена на денежном контракте, что решения покупаются, была идея: давайте введем высокие пошлины, отдельный бюджет судебной системы, уравняем шансы и таким путем выйдем на принятие независимого решения.
Читать дальше