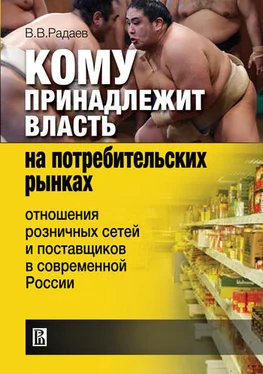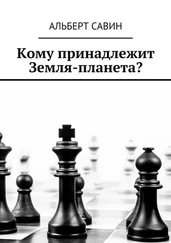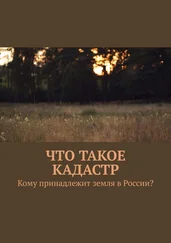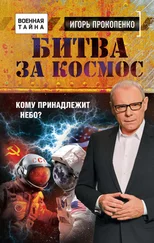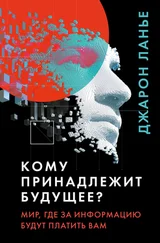Как же достичь идеала справедливого обмена? Можно было бы предположить, что в качестве такого идеала предлагается, например, равный уровень маржинального дохода контрагентов по обмену. Но, видимо, не это имеется в виду, ибо известно (хотя и не на основе достоверных данных, а лишь множественных экспертных оценок), что маржа производителя в среднем выше маржи розничного торговца. И считается, что именно так и должно быть. Следовательно, подразумеваются какие-то более тонкие соотношения, которые трудно (если вообще возможно) формализовать в виде чётких, однозначно понимаемых критериев.
Проблема усугубляется тем, что при решении задачи обеспечения баланса интересов стороны рыночного обмена видятся изначально неравными или не совсем равными. И неравенство возникает не из того, что кто-то набрал слишком большой экономический вес и оказался в доминирующем положении, а из дифференцированного отношения к самим категориям участников рынка — являются ли они, например, производителями или посредниками, отечественными или иностранными компаниями, малыми или крупными предприятиями.
Конечно, с точки зрения буквы закона все эти категории должны быть равны. Но существуют неформальные нормы, благодаря которым отношение к участникам рынка оказывается разным, не нейтральным даже при проведении либеральной политической линии, не говоря уже об отъявленных регуляционистах, делающих постоянные попытки внести в законы какие-нибудь преференции или ограничения для отдельных категорий рыночных игроков.
В итоге при переплетении требований защиты экономической свободы для участников рынка с намерением восстановить принципы справедливого обмена недалеко и до соблазна следования политическим приоритетам, которые диктуют уже не установление общих условий для всех участников рынка, а обоснованные (с точки зрения национальных интересов) преференции или ограничения в отношении отдельных отраслей или групп компаний. В последнем случае либеральные суждения невольно начинают смыкаться с популистской риторикой о принципиальном единстве интересов отечественных производителей и конечных потребителей и необходимости приструнить «зарвавшихся» посредников. И дистанцироваться от популистских высказываний, присущих, например, многим депутатам Государственной думы, становится труднее.
Разумеется, все эти исходные представления «упаковываются» в риторику защиты рыночной конкуренции. Но ведь во имя защиты конкуренции можно предпринимать прямо противоположные действия — предоставлять свободу участникам рынка или вмешиваться в наведение рыночного порядка. Здесь нет однозначно понимаемых формул. И реализацию права на существование и свободную экономическую деятельность одной категории участников рынка (например, мелких сельхозпроизводителей) нетрудно попытаться превратить в обязанность других участников рынка (например, торговых сетей) обеспечивать эти права, не тревожась об оценке экономической эффективности и технологической возможности подобных действий.
Между тем экономистами неоднократно указывалось на нецелесообразность принятия антимонопольных санкций к долгосрочным контрактным отношениям между партнёрами, осуществляющими специфические инвестиции в эти отношения. Во-первых, оценка справедливости и обоснованности стоимостных пропорций здесь объективно затруднена. А во-вторых, вмешательство регулирующих органов снижает стимулы контрагентов к таким инвестициям и повышению контрактной дисциплины [Joskow 2002]. Однако к этим аргументам мало кто прислушивается.
* * *
Можно заключить, что по мере захвата торговыми компаниями российских территорий государственным контролирующим и надзорным органам захотелось восстановить контроль (хотя бы частичный) над этим сектором. Рассмотрим более подробно, как происходил процесс разработки и обсуждения новых формальных правил на федеральном уровне. На наш взгляд, его можно условно разделить на следующие основные этапы:
1) разработка концепции закона в МЭРТ (конец 2006 — конец 2007 г.);
2) обсуждение и согласование законопроекта (конец 2007 — весна 2008 г.);
3) попытка отложить и заместить принятие закона в Министерстве промышленности и торговли (весна 2008 — лето 2009 г.);
4) повторный политзаказ; обсуждение законопроекта и его принятие в Государственной думе (лето — осень 2009 г.);
5) борьба за интерпретацию закона, выработка схем исполнения и реализации (начало 2010 г.).
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу