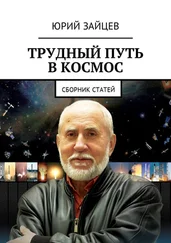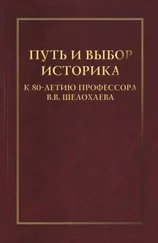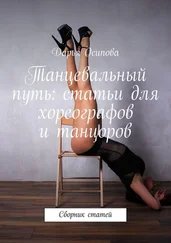Не считаю возможным здесь и сейчас разбирать все причины попадания каждой из них в «социалистический лагерь». Сегодня в экономических кругах принято объяснять те или иные политические вывихи и выкрутасы глубинной экономической причиной, таинственно скрытой от современников. Говорят, например, что Рузвельт поддерживал Сталина, так как США вели войну с Великобританией за гегемонию в мировой экономической системе, а Сталин казнил сотни тысяч своих сограждан, чтобы эффективно провести индустриализацию. Ищут экономическую подоплеку и того исторического маршрута, по которому несколько десятилетий двигались страны Восточной Европы. Но мне такая методология не близка. Я предпочитаю исходить из того очевидного факта, что во всех послевоенных случаях «социалистического выбора» имело место политическое принуждение. Другое дело, что многие граждане социалистических стран, как, впрочем, и СССР, приспособились к заданным условиям существования и чувствовали себя неплохо. До тех пор, пока экономическая неэффективность принуждения не стала очевидной для всех.
Когда же в 1989 году (кто-то назовет, быть может, другую дату, это не важно) система «особого модернизационного проекта» повсеместно рухнула, возможны были два пути. Первый путь – перестать подчеркивать особость, присоединиться к универсальным принципам модернизационных проектов, а специфику своей страны воспринимать как конкретное условие общей задачи, которую надо решить для вхождения в современную мировую систему. Второй путь – сменить одну особость на другую, желательно не сильно отличающуюся от привычной, и продолжать противостояние универсальности модернизационных проектов.
Чем вызвана сама необходимость выбора? Тем, что переход с обочины на магистраль осуществляется не бесплатно. Хочешь ехать быстро, а не тащиться пешком – учись водить машину. Все без исключения посткоммунистические страны, выбравшие первый путь, прошли через тяжелые испытания. На каждом конкретном человеке сказывались смена критериев компетентности, изменения социальной позиции, да и этики, в конце концов. Это тяжелейшие издержки, которые не каждый согласен нести. Но надо только понимать, что, отказываясь делать усилия, человек перекладывает проблему на плечи своих детей. А за это время отставание от ушедших вперед увеличится.
В рассказах наших друзей и партнеров из стран Восточной Европы и Балтии мы не услышали победных реляций и всеобщих криков «ура!». Даже представители образцовой Чехии, где реформу – предмет восхищения всех экономистов – проводил блестящий Вацлав Клаус, говорили не только об успехах, но и о проблемах. Внимательный, да и не очень внимательный, читатель увидит из записей наших бесед, что не так уж сладко живется в посткоммунистических странах. В некоторых – даже хуже, чем в России. В том, например, что касается безработицы, сопровождающейся массовой трудовой эмиграцией. Однако внимательный читатель увидит и то, что экономики всех этих стран, вообще не имеющих, как правило, нефтяных и газовых месторождений, развиваются успешно именно благодаря своим принципиальным отличиям от экономики российской. А их отличия, в свою очередь, проистекают из того, что там и реформы были не такие, как в России.
Где-то они проводились последовательно, а где-то по нескольку раз менялся курс. Где-то не понадобилось либерализовывать цены – это было сделано раньше, а где-то была шоковая терапия. Где-то нормализация денежно-кредитной системы прошла более безболезненно, а где-то – менее. Однако, за исключением Болгарии и Румынии, инфляцию быстро задавили везде. Сделано это было путем жесткого ограничения доходов, разумной валютной и кредитной политики. Болгария и Румыния затянули процесс, но, когда поняли, что с инфляцией иначе не справиться, стали поступать так, как до них поступили другие.
А Россия поступала «не как все». Наш «особый путь» состоял в отказе от последовательного проведения шоковой терапии, включающей в себя не только освобождение цен, но и временное ограничение роста доходов, без чего она никакая не терапия. Вместо этого запустили маховик шизофренической инфляции на несколько мучительных лет. И до сих пор остановиться не можем.
Многое из того, что происходило в 1990-е в России, было похоже на происходившее в других посткоммунистических странах. Наши собеседники не очень-то распространялись на тему развития банковской системы, но в экономической литературе принято считать, что систему эту в их странах трясло тогда очень сильно. И кризис 1997—1998 годов ни одну из них не миновал. Все графики макроэкономических показателей посткоммунистических стран, включая Россию, по их геометрии отличались в те времена не очень заметно. А вот инфляционного поноса, в течение долгого времени иссушавшего экономику и семейные бюджеты, нигде, кроме России, не было. Немудрено поэтому, что и призыв к государственному регулированию цен нигде, кроме России, популярностью давно уже не пользуется.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу