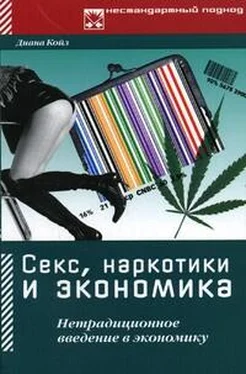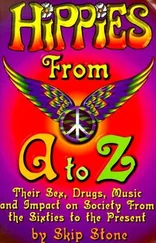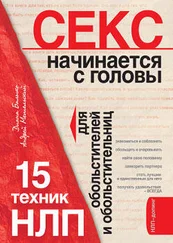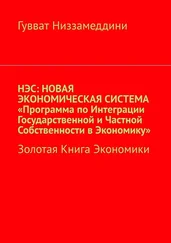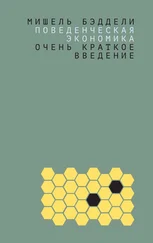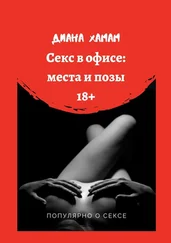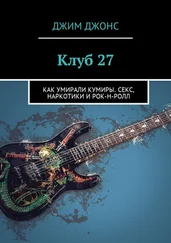В некоторых случаях на рабочие места, созданные иностранной компанией, брали в основном женщин. Их труд дешевле, чем мужской, а также связан с такими дополнительными качествами, как большая ловкость рук при сборке деталей микроэлектроники или при резке и сшивании тканей. Разве удивительно, что местные мужчины во многих традиционных обществах против того, чтобы женщины получили большую экономическую независимость, а иногда и зарабатывали денег больше, чем остальные домочадцы? Однако для молодых женщин в городах Китая или даже Северной Мексики работа на заводе иностранной компании — это своего рода освобождение.
Точно также нельзя сразу осуждать использование детского труда в бедных странах. Западные потребители отказываются покупать футбольные мячи, сделанные детьми в Бангладеш и Пакистане, а это значит, что дети потеряют работу. Их родители отправят их не в школу, а на малооплачиваемую работу в других отраслях. Некоторые, в конце концов, начнут заниматься проституцией. Было крайне желательно запретить детский труд, но только после того, как найдётся другой источник доходов для их семей и необходимое финансирование мест в школах.
Если доходы семьи вырастут, то родители перестанут, без сомнения, отправлять своих детей на заработки (или продавать их в рабство). В беднейших странах с доходом меньше 300 долл. на члена семьи, 10–12 % детей работают. Для сравнения: в странах со средним уровнем дохода в 5 тыс. долл. на человека работают лишь 2 % детей (и помните, мы ведь до сих пор считаем, что дети должны выполнять какую-нибудь работу, будь то уборка своих комнат за карманные деньги или доставка газет или работа в магазине субботними вечерами). Большинство детей работают в сельском хозяйстве, а не в промышленности, часто на небольших семейных фирмах. Взрослые, как правило, предпочитают места на заводах, потому что за них гораздо лучше платят.
Пробная схема Всемирного банка «питание в обмен на посещение школы», возможно, позволит на некоторое время уменьшить использование детского труда, однако лучшим выходом было бы повышение уровня доходов. А это означает экономический рост в беднейших странах. Лучший, а возможно, и единственный способ добиться роста экономики — производство и продажа на экспорт.
Всё это не означает, что условия в многонациональных заводах, работающих на экспорт, великолепны. Существует множество исключений из общего правила о том, что условия лучше местной нормы, в основном в таких отраслях с традиционно ужасными условиями работы, как производство одежды и огранка драгоценных камней. Не удивительно, что местные рабочие требуют повышения заработной платы и улучшения условий труда, ведь так делают рабочие во многих развитых странах. По сути, чем скорее на заводах будут работать только роботы, тем лучше для человечества, потому что большая часть работ — тяжёлые, повторяющиеся, жаркие, шумные и даже опасные. Тем не менее, рост иностранных инвестиций прошлого десятилетия, который привёл к созданию базы обрабатывающей промышленности, является источником процветания для развивающихся стран. Богатые многонациональные компании, которые так активно сейчас критикуют, принесли с собой больше работы, больше денег, больше технологий, больше экспорта и больше процветания в развивающиеся страны. Они зачастую достигли гораздо большего, чем коррумпированные и неэффективные правительства этих стран.
Экономисты расходятся в оценке влияния заграничных инвестиций многонациональных компаний на их собственные страны. Ведь перевод производства в страны с дешёвой рабочей силой приводит к сокращению рабочих мест в странах с дорогой рабочей силой. Одновременно с ростом экспорта товаров, произведённых в развивающихся странах, сократилась доля промышленности в экономике промышленно развитых стран. С трудом можно поверить, что глобализация производства не приведёт к сокращению количества рабочих мест и заработной платы дома. Подобные опасения существовали и при подписании Североамериканского соглашения о свободной торговле (НАФТА). Считалось, что мексиканцы вытеснят американцев с их работы, хотя доказательств тому нет. Для американской промышленности 1990-е годы стали золотым десятилетием с точки зрения занятости.
Прямые иностранные инвестиции и внешняя торговля, возможно, повлияли на общее сокращение количества рабочих мест в промышленно развитых странах, но сложно поверить в то, что глобализация является единственным объяснением масштабов сокращений в обрабатывающей промышленности и снижения заработной платы работников заводов. Доля обрабатывающей промышленности в экономике США и Великобритании достигла своего пика в 1960-е годы, а в более промышленно развитых странах, таких как Германия, — в начале 1970-х годов. Это произошло задолго до появления значительных объёмов экспорта промышленных товаров из развивающихся стран. Даже таким азиатским тиграм, как Корея и Малайзия, являющимся сейчас основными экспортёрами промышленных товаров, до 1990-х годов, принадлежала лишь небольшая доля международной торговли этими товарами. Как сказал Пол Кругман в своей знаменитой статье (повторно опубликованной в книге Paul Krugman «Pop Internationalism»), импорт из стран с низким уровнем заработной платы в 1990 г. составлял 2,8 % от ВВП Америки — по сравнению с 2,2 % в 1960 г. Как мог рост в размере всего лишь половины процентного пункта от ВВП вызвать снижение на 10 пунктов в доле продукции обрабатывающей промышленности в экономике (с 29 % до 19 % ВВП)? Многие другие исследования подтверждают его выводы о том, что торговля с развивающимися странами слишком невелика, чтобы быть причиной такого масштабного изменения в экономиках промышленно развитых стран. Большинство экономистов, таким образом, считает, что даже если прямые иностранные инвестиции и играют в настоящий момент значительную роль, появление новых информационных технологий больше повлияло на переход от производства в современной экономике. По сути, перевод производства в другие страны больше похож на симптом экономических перемен, чем на их причину.
Читать дальше