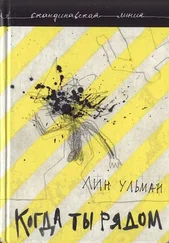* * *
В Хаммарсе ничего не менялось. Точнее, изменения происходили так медленно и постепенно, что их никто не замечал – вплоть до того вечера, когда отец опоздал на семнадцать минут и сам этого не понял, объявив таким образом, что все кончено. Вплоть до того вечера девочка жила с уверенностью, что все вечно было так, как сейчас. Порядок и пунктуальность. Стулья где стояли, там и стоят. Картины висят там же, где всегда. Сосны за окном по-прежнему ссутулены. У Ингрид длинная коричневая коса, которая раскачивается, как маятник, когда Ингрид расхаживает по дому, стирая пыль или взбивая подушки.
Позже одновременно с девочкой в Хаммарс стали приезжать Даниэль и Мария. Они были старше ее, но все же дети. Они приезжали летом. Так оно и было: дни и ночи в низком длинном доме, а вокруг – море, камни, чертополох, маки и лысоватые поляны, похожие на африканские саванны. Каждое лето напоминало предыдущее. Каждый вечер в шесть девочка и ее хаммарская семья ужинали на кухне. Еду стряпала Ингрид, и еда всегда была вкусная. После ужина все выходили посидеть на улице, на коричневой скамейке, откуда открывался вид на засыпанную щебенкой дорожку. На ней стояла машина, позже – две машины, а потом к ним добавился еще красный джип. За велосипедным сараем начинался лес с протоптанными в нем тремя тропинками. Здесь, прислонившись к коричневому столбу, который удерживал маленький навес, Ингрид прикуривала свою ежедневную сигарету.
Коричневая скамейка была теплой и слегка шероховатой – если погладить, в ладонь впивались занозы. Дом был выстроен из дерева и камня, а вокруг тянулась каменная ограда. Когда взрослые по вечерам читали газеты, девочка одна спускалась к морю. Вымытый волнами каменный пляж резко спускался к воде, и когда вода плескалась у самых ног девочки, та оборачивалась и смотрела на дом и каменную ограду. Отсюда всего этого почти не было видно, все исчезало в светло-серой дымке, камни и небо, выбеленные летним солнцем, время, день, будто кто-то набросил на все плащ-невидимку. Хотя исчезало не до конца: наличники на окнах и дверях были васильково-синие, и они оставались на месте. Да, там стоял дом, и полностью спрятаться он не умел.
Иногда кто-то говорил: «Почему мы не сидим с другой стороны? Оттуда море видно и как над горизонтом небо меняется». Однако они все равно сидели с передней стороны дома, на коричневой скамейке, Ингрид, прислонившись к покоричневевшему столбу, курила, а все остальные будто выкуривали с ней ту единственную за день сигарету.
Каждый день отец сидел в особой комнате и писал. «Усердие – это все, чем я могу похвастаться», – говорил он. Девочка называла эту рабочую комнату кабинетом, а по вечерам кабинет превращался в кинозал. Из черного чемоданчика отец доставал белый экран, свет выключали, и начинался фильм. Черный чемоданчик был таким длинным, что в закрытом виде напоминал гроб – гроб для очень худого человечка, например марионетки из палочек. У чемоданчика имелись застежки и ручка, как у обычного чемодана или сумки, а стоял он в кабинете на особой подставке. А потом отец открывал чемоданчик, и гробик превращался в экран, молочно-белый и такой огромный, что натянутым парусом завешивал всю стену.
В маленькой комнатке, которую от кабинета отделяла стена с небольшим застекленным окошком, стояли проекторы. В первые годы отец сам крутил пленку, но со временем он обучил своего сына Даниэля, которому за каждый фильм платили по десять крон. Девочке проекторы трогать запрещалось, и запрет этот был строже, чем указание не шуметь во время послеобеденного отдыха, или не оставлять двери в Хаммарсе открытыми, или не сидеть на сквозняке, он был примерно таким же строгим, как запрет опаздывать. В Хаммарсе никто не опаздывал. Впрочем, даже несмотря на пунктуальность – а в Хаммарсе все приходили вовремя, – тут принято было говорить: «Простите, что опоздал». Это было особое хаммарское приветствие, такое же легкоузнаваемое, как крики чаек летом: «Простите, что опоздал!» А если уж кто-то вопреки всем правилам приходил на несколько секунд позже, то он говорил: «Простите, что я опоздал! Сможете ли вы меня простить? Мне нет никакого оправдания!» Однако подобное происходило крайне редко.
В первые годы кино для девочки начиналось в половине седьмого.
Она сидит в большом, потрепанном кресле, положив ноги на пуфик. Чемоданчик открыт, экран повешен. Она худенькая, как палочка. У нее длинные разлохмаченные волосы и торчащие зубы. Отец гасит свет, закрывает дверь и занимает место у проектора.
Читать дальше