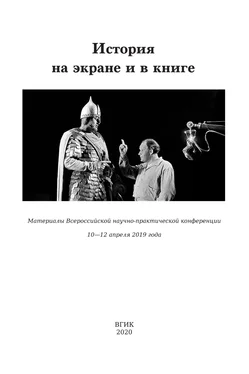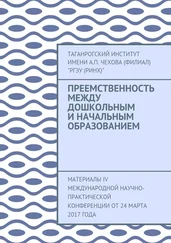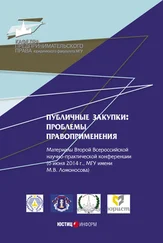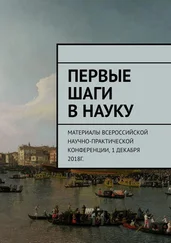В Егоре Полушкине, герое отчетливо шукшинской по духу повести Бориса Васильева «Не стреляйте в белых лебедей», без труда узнается типичный шукшинский чудик. В экранной версии этой истории (Р. Нахапетов, 1980) главную роль исполнил Станислав Любшин, тремя годами ранее сам экранизировавший прозу Шукшина («Позови меня в даль светлую», С. Любшин, Г. Лавров, 1977). Рефреном повести Васильева и фильма Нахапетова стал печальный упрек жены Егора в адрес непутевого мужа-чудика: «бедоносец ты мой». В этой проникнутой любовью инвективе помимо противопоставления героя Георгию (а в фольклорной традиции Егорию) Победоносцу, содержится, конечно, и намек на инверсию «народа-богоносца» из публицистических откровений Достоевского.
Год выхода фильма «Не стреляйте в белых лебедей» (1980) знаменует предел бытования образа чудика, каким он предстал у раннего Шукшина [7] На позднем этапе творчества Шукшин становится более критичным к своему герою и сам позволяет себе усугублять его недавно обаятельную чудаковатость до раздражающего самодурства: «Оказывается, деревенский человек может быть смешон. Нет, не трогательно забавен, как «чудик» Васятка, а именно глупо, идиотски смешон, как тот «дебил» (герой одноименного рассказа. – А.А. ), который, чтобы посрамить учителя, купил дорогую шляпу, а потом «назло» ему черпнул шляпой воды из реки и напился» [1].
или, например, в рассказах Евгения Попова, также отмеченных влиянием шукшинской прозы. Эта профанная инкарнация образа Мышкина была возможна в рамках романтической культуры 60—70-х с ее акцентом на противопоставлении незаурядной странной личности косному социуму. В 80-е годы, по мнению литературоведа Михаила Эпштейна, этот наивный романтизм иссякает, и на смену обаятельному чудаку приходит невразумительный «мудак». «Мы еще недооценили и недоисследовали это властное явление мудака в нашей литературе 80-х годов. Чудак – сам по себе, он выпадает из ячеек общественного разума, обещая будущее их обновление. Чудак – индивидуальное отклонение от слишком зауженных норм социальной жизни. <���…> Мудак тоже глубокомыслен порой до ломоты в мозгах и тоже отклоняется от норм здравомыслия, но это свойство не индивида, а коллективного существа, свернувшего с колеи разума и истории. Чудак – личностный вызов всеобщему здравомыслию, мудак – стертый облик общественного безумия» [38].
Дальше Эпштейн берется за описание наиболее заметных литературных «мудаков» 80-х, в том числе «мудака-человеколюбца», который «берет на перевоспитание в свой дом великовозрастного дебила, а потом жалуется, что жена сделала аборт от первой любви его воспылавшего питомца» [38]. Напомню, речь здесь идет о сюжете нашумевшего рассказа Виктора Ерофеева «Жизнь с идиотом». И хотя в рассказе прямых «материальных» аллюзий на роман Достоевского нет, в его экранизации (А. Рогожкин, 1993) в квартире «мудака-человеколюбца» появилась репродукция картины Гольбейна «Мертвый Христос в гробу». Той самой, от которой, по словам князя Мышкина, «у иного еще вера может пропасть». Скорее всего так незамысловато воспринял режиссер Александр Рогожкин моду на граничащее со стебом цитирование, повсеместно утверждавшуюся тогда вступавшей в свои права постмодернистской эстетикой. Это было не последнее смутное прикосновение Рогожкина к тексту «Идиота»: безымянный в двух культовых комедиях о национальных особенностях охоты и рыбалки генерал-тамада Михалыч неожиданно становится генералом Иволгиным в менее успешных продолжениях этого кинолубка – «Особенностях национальной охоты в зимний период» (А. Рогожкин, 2000) и «Особенностях национальной политики» (Д. Месхиев, Ю. Конопкин, 2003). Содержательных отсылок к роману Достоевского в этих фильмах не сыскать, разве что даосский афоризм генерала «если долго смотреть на луну, то можно стать идиотом»…
Интермедия
В 1981-м году студент режиссерского отделения ВГИКа Владимир Тумаев, получив от мастера Марлена Хуциева задание снять этюд на тему «Молодой человек XIX века», решается экранизировать отдельные сцены «Идиота». Сейчас об этой учебной работе почти не помнят (да и в момент выхода особого резонанса она не вызвала), хотя ее создатель жив и активно работает. Однако курсовую Тумаева, несмотря на локальность и незаметность, можно считать принципиальной для своего времени уже хотя бы потому, что она намечает радикальный разрыв с предшествующим советским опытом экранизаций Достоевского (в диапазоне от Пырьева до Кулиджанова) и предвосхищает эстетику перестроечных фильмов Александра Сокурова и Киры Муратовой. Для ощущения аутентичного времени в кадре Тумаев с начинающим оператором Валерием Мюльгаутом, среди прочего снявшим впоследствии «Перемену участи» (К. Муратова, 1987) и упомянутую выше «Жизнь с идиотом», даже использовали специальную, фактически отбракованную монохромно-зернистую пленку. На роль князя Мышкина молодой режиссер пригласил Бориса Плотникова, поразившего его исполнением Сотникова в «Восхождении» (Л. Шепитько, 1976). Решение более чем закономерное и оправданное, если учитывать евангелические аллюзии жертвенной истории Сотникова в фильме Шепитько. Сам Плотников, по воспоминаниям Фатуева, на телефонное предложение исполнить роль Мышкина ответил сначала продолжительным смехом, но вскоре извинился и объяснил растерянному постановщику, что не мог отреагировать иначе, поскольку всю жизнь мечтал об этой роли. Более того, у молодого режиссера в принципе были серьезные амбиции по части кастинга: в роли Рогожина он видел Владимира Высоцкого, и, вполне возможно, задумка бы осуществилась, если бы не преждевременная кончина последнего. Но и без Высоцкого картина получилась более чем достойной и зрелой и выглядела серьезной заявкой на продолжение работы в полнометражном формате. Так решил и Марлен Хуциев и отправился к председателю Госкино Филиппу Ермашу ходатайствовать и ручаться за своего подопечного, чтобы тому позволили поставить полнометражный фильм по мотивам романа Достоевского. Ермаш отнесся к предложению Хуциева с сочувствием, но ответил вынужденным отказом, поскольку в планах Госкино и Мосфильма экранизация «Идиота» уже была закреплена за Андреем Тарковским…
Читать дальше