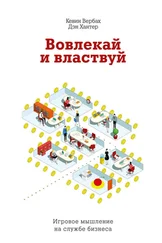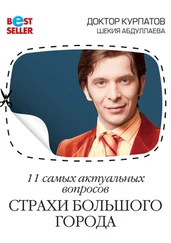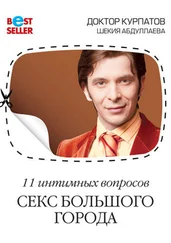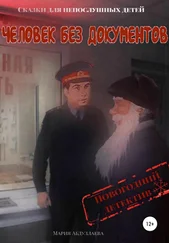Конец постмодернистской эпохи, который уже никто не оспаривает, эпохи, отменившей, казалось бы, саму способность документировать (несмотря на роль архивов в истории), стал свидетельством системного кризиса, о котором размышляют актриса Суинтон и аналитики многообразных сфер занятий.
Ощущение иной кинематографической реальности, ничего общего не имеющей с постмодернистским гиперреализмом, было мгновенно распознано на рубежном Каннском фестивале 1999 года, когда председатель жюри Дэвид Кроненберг выдал главный приз «Розетте» братьев Дарденн. Но по каким путям формировалась эта как бы не сконструированная реальность, минуя аттракционные приемы и пресловутую образность, все еще не вполне артикулировано, хотя метадокументальный тренд 2000‐х вроде всем очевиден.
В 2009‐м на театральном фестивале «Золотая маска» в Москве были показаны легендарные спектакли прошлого века. Среди них – работы Уильяма Форсайта. После первого балета – «Автограф Потемкина», представляющего классический (звучит как оксюморон) образец постмодернистского искусства, – я с друзьями обсуждала впечатления. За столиком в буфете оказался незнакомец, вдруг подавший реплику: «Это гениальный архаический балет, потому что время постмодерна прошло, теперь – исключительный интерес к реализму». Прямо так и сказал. Но мы не стали расспрашивать, что же означает, на его взгляд, загадочное слово «реализм», особенно в балете, хотя он, возможно, и не только балет имел в виду. Это замечание анонимного зрителя засвидетельствовало общественные настроения, странным образом совпавшие с замешательством ученых мужей. Но приметы принципиально новой ситуации, в которой оказались авторы и зрители 2000‐х, пока не сложились в структуру.
В концептуальной «таблице Менделеева», способной покрыть своими элементами химический состав искусства 2000‐х, многие клетки свободны. Их еще предстоит заполнить.
Задача этой книги – проанализировать природу «новой достоверности» (не путать с «новой искренностью») совсем молодых и давно практикующих реалистов, а также реалити-шоу и мокьюментари (имитации документальности в кино); коллизии между документацией и реконструкцией событий, внезапный интерес режиссеров документального (точнее, постдокументального) кино и театра к мифологии обыденного сознания.
Работа с документом – частный случай разнообразных практик, то есть работы с чужим материалом в авангарде и постмодерне. Документ – элемент структуры, которую собирает автор.
Постдокументализм – рабочий термин или даже предтермин, которым можно было бы обозначить следующий этап развития искусства 1990‐х – 2000‐х. После того как дистанция между автором и документом осознана и доведена до полемической крайности, начинается обратный процесс. Суть этого процесса в стремлении вернуть язык художнику, но язык, уже отпущенный на свободу и освеженный анонимностью документа. Отсюда разнообразные нетривиальные способы его переосмысления, включая репортажность, реконструкции, воспоминания, запечатленные в домашних архивах или хранящиеся в памяти людей, перенесенных (в прямом смысле или благодаря их рассказам) на сцену и в постдокументальное кино.
Приходится признать, что, подобно тому как постмодернизм, превратившись в попсу, перестал играть свою освободительную роль, так и постдокументализм, востребованный для реабилитации документа, оказался потеснен внеочередным «поворотом винта»: иным соотношением воображаемого/реального в новейшем авторском кино, пограничном так называемому contemporary art’у. И хотя румынская, скажем, волна еще с экрана не схлынула, новые режиссеры начинают осваивать другие (смежные) территории. Победа фильма Апичатпонга Вирасетакуна «Дядюшка Бунми, который помнит свои прошлые жизни» на Каннском фестивале 2010 года побуждает задуматься об иных связях или интервалах между временем повседневности и документальной реконструкцией архаических – иногда реальных, иногда псевдофольклорных – обрядов, ритуалов. Однако новый «промежуток» потребует накопления своего персонального опыта.
А пока стоило бы подумать вот о чем: «документальное» прошедшего времени – это не только условие договора между автором и читателем, зрителем. Оно видится как источник, точнее, понятие, которое позволяет (или не позволяет) обнаружить другое действующее лицо 2000‐х: не героя, не коллектив, не массы и даже не реальное в эмпирической или виртуальной, столь же материальной реальности. Возможно, этим «действующим лицом» становится опыт. Не только чувственный, но опыт совместного проживания. Или даже производство такого опыта.
Читать дальше