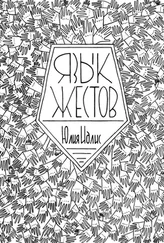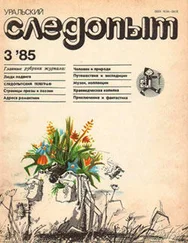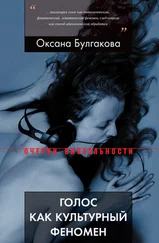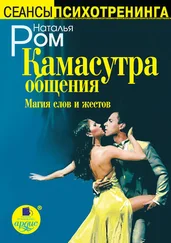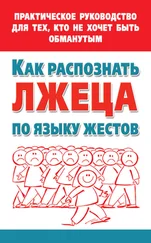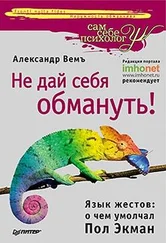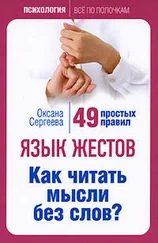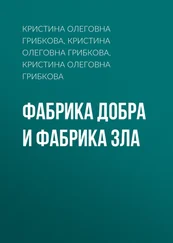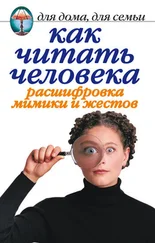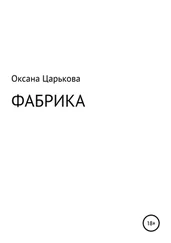Агрессивные жесты – принуждения, угрозы, нападения – перенимаются в сцены любовного контакта между мужчиной и женщиной. Так показано сватовство старшего Власова: «он поймал ее в темных сенях и, прижав всем телом к стене, просил глухо и сердито: – Замуж за меня пойдешь? – Ей было больно и сердито, а он грубо мял ее груди, сопел и дышал в лицо, горячо и влажно. Она попробовала вывернуться из его рук, рванулась в сторону. Задыхаясь от стыда и обиды, она молчала…» (28). Горький подчеркивает «анимальность» Михаила Власова и мимикой (на его лице «страшно сверкали крупные желтые зубы» (7)), и особенностями конечностей («спрятал за спину свои мохнатые руки» (7)), и голосом («зарычал» (28)).
«Безжестие» революционеров смягчено по сравнению с отчужденной выдержанностью господ тем, что пролетарии-аскеты снабжены интимной сферой и робкими проявлениями нежности. Хотя контакт Павла с матерью крайне сдержан (редки объятия, отсутствуют поцелуи), они касаются друг друга – в основном это пожатие ладоней. В том же тоне сдержанности описана ласковость материнских жестов: «села рядом и обняла сына, притягивая голову его к себе на грудь» (9), «гладила рукой его потные, спутанные волосы» (10), «молча похлопала его по руке» (45).
Разрабатывая ораторскую жестикуляцию Павла, Горький закладывает клише нового героя, которые развиваются после революции. Оратор Павел дается в перспективе, издалека, из толпы («глядя на знамя вдали, она – не видя – видела лицо сына, его бронзовый лоб» (178)), поэтому из этой перспективы воспринимаются только подчеркнутые жесты: «широко взмахнув рукой, он потряс в воздухе кулаком» (70) [152] Об ударе кулаком как универсальном жесте, меняющем значение после революции, см. вторую главу.
. Лишая героя активного жеста (фабричный труд не присутствует в повествовании), Горький описывает единственное поле его деятельности – чтение и политические споры – в глаголах хаотического движения, сообщая характеру обращения со словом моторную агрессивность: «Порою ей казалось, что ‹…› оба ослепли: они тычутся из стороны в сторону в поисках выхода, хватаются за все сильными, но слепыми руками, трясут, передвигают с места на место, роняют на пол и давят упавшее ногами, задевают за все, ощупывают каждое и отбрасывают от себя» (64).
Революционера Андрея Горький снабжает инфантильными жестами, они работают на характеристику обаятельного комика с украинским говором. Телесный образ «хохла» строится на несоответствии большого роста и шаловливо-неловких движений: он «тяжело возил ноги по полу», как делает ребенок (43), и трет голову руками; «качается на стуле» и «зевает» (21) (крайне редкая физиологическая характеристика). Горький дает и правильное чтение этой телесной пластики: в его «угловатой фигуре, сутулой, с длинными ногами» было что-то забавное (22). Он совмещает широту жестов «славянского богатыря» (34) («широко шагнул», «тряхнул головой» (49)) и эксцентрику, заставляя двигаться «не те» части тела: он «дрыгнул ногами и так широко улыбнулся, что у него даже уши подвинулись к затылку» (23).
Менее приемлемо для Горького смешение мужского и женского жестовых языков, которое он наблюдает в нервных эмансипированных и поэтому ненатуральных революционерках. Роль отрицательного индикатора играет темп
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
Carpenter W. B. Principles of Mental Psychology. New York: Appleton, 1874.
Хотя он мог узнать о ней из книги философа Людвига Клагеса, популяризировавшего эффект Карпентера. Ср. Klages L. Ausdrucksbewegung und Gestaltungskraft. Grundlagen der Wissenschaft vom Ausdruck. (3. Auflage). Leipzig: Barth, 1923. S. 107.
Benjamin W. Probleme der Sprachsoziologie (1935) // Gesammelte Schriften. Hg. Tiedemann R., Schweppenhäuser H. Bd. III. Frankfurt a/M.: Suhrkamp, 1979. S. 474. В этой рецензии на публикации по социологии лингвистики Беньямин соотносит теорию Пиаже об эгоцентрической стадии в развитии языка ребенка, противостоящей социализированному языку, с моторным «пред-языком» детей, отличающимся от конвенциальных жестов взрослых.
Benjamin W. Über das mimetische Vermögen (1933) // Gesammelte Schriften. Bd. II. Frankfurt a/M.: Suhrkamp 1980. P. 210–211. Почти в это же время русский режиссер детских фильмов Маргарита Барская описала детскую моторику так: «Если вы спросите ребенка: „Как тебя зовут?“ – то он поступит так: нога дрыгнет в сторону, голова склонится к плечу, или нос уткнется в грудь, руки задерут платьице выше пупа, или палец моментально в раздумье заковыряет глаз, нос, ухо или ухватит волосы, животик выпятится вперед, и только после этих сложных операций – он вам скажет: „Коля“. У нормального взрослого человека скупая пластика. У ребенка пластика в переизбытке, часто без всякой логики. И эта пластика – общая для них всех – индивидуализирована у каждого в отдельности. Этот-то переизбыток накопленной мускульной энергии, расходуемый в вычурных и почти беспрерывных движениях ребенка, я и называю „пластическим фольклором“» (цит. по: Милосердова Н. Возвращение Маргариты Барской // Киноведческие записки. № 94/95. 2010. C. 240).
Читать дальше