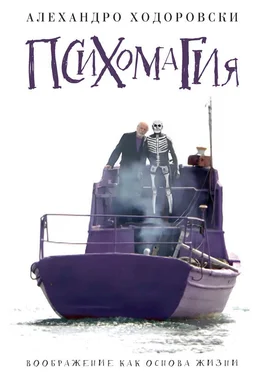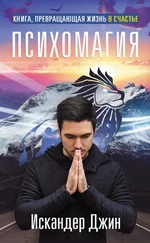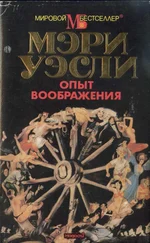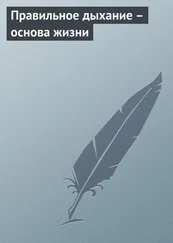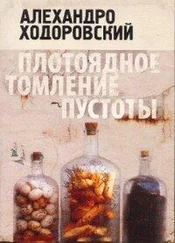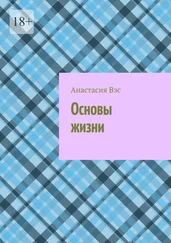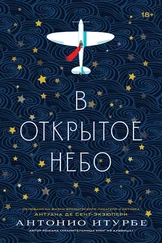Что такое «эфемерная паника»?
Здесь я должен вспомнить статью, опубликованную мной в 1973 году в сборнике Фернандо Аррабаля «Паника». В ней я сформулировал свое видение театрального процесса: «Чтобы достичь панической эйфории, нужно в первую очередь освободиться от театра, выйти из помещения». Каким бы ни был театр с архитектурной точки зрения, он рассчитан на актеров и зрителей и подчиняется правилам устаревшей игры, пространство в нем разграничено, сцена отделена от реальности. Таким образом, между зрителем и актером изначально устанавливаются (это можно назвать основным антипаническим фактором) строго регламентированные отношения. Актер состоит на службе у архитектора, а потом – у автора пьесы. Театр навязывает актеру манеру двигаться и жесты, тогда как обычно именно человеческий жест определяет архитектуру. Когда мы прогоняем безучастного зрителя с панического празднества, автоматически исчезают «кресла» и «актерская игра» перед неподвижным взглядом. «Эфемерное» творится на ничем не ограниченном пространстве, так что неизвестно, где заканчивается сцена и начинается реальность. «Панический театр» изберет для своего представления любое понравившееся место: пустырь, лес, людную площадь, операционную, бассейн, разрушенный дом, или ладно, пусть будет обыкновенный театр, но тогда каждый сантиметр пойдет в дело, представление будет происходить в зрительном зале, за кулисами, в туалетах, в коридорах, в подвале, на крыше… Можно устроить «эфемерное» празднество под водой, в самолете, в скором поезде, на кладбище, в роддоме, на скотобойне, в доме престарелых, в доисторическом гроте, в баре для гомосексуалистов, в монастыре. Ну и поскольку «эфемерное» действо предельно конкретно, нельзя привносить в него проблемы пространства и времени: у пространства есть свои реальные размеры и функции, и оно не может символизировать собой другое пространство, оно означает именно то, что означает. Нечто похожее происходит и со временем: за время спектакля не могут меняться года и эпохи. Время соответствует моменту действия. И в этом реальном сочетании пространства и времени движется бывший актер. Он распределяет свою энергию между «персоной» и «персонажем». До изобретения «панического представления» в мире существовали две общепринятые театральные школы: одна требовала от актера полностью раствориться в «персонаже», лгать себе и остальным, избавиться от собственной сущности, превратиться в другого человека, в персонаж, родившийся из описаний и не имеющий возможности выйти за пределы узких выдуманных рамкок. Вторая школа учит эклектике, ее актер – человек и персонаж. Персонаж ни на секунду не должен забывать, что он на самом деле играет, а человек по ходу представления может критиковать игру своего персонажа.
Бывший актер, человек панический, не участвует в этих играх и полностью устраняется от персонажа. Человек панический пытается постичь себя в ходе «эфемерного представления».
Драматурги любят прятать одну пьесу внутри другой, и частенько на фоне одной сцены разыгрывается другая, одни актеры выступают перед другими.
Человек панический по горло сыт тем, что в повседневной жизни всякий паяц изображает кого-то другого, он полагает, что миссия театра и состоит в том, чтобы люди перестали наконец воображать себя персонажами, разыгрывающими роль перед другими персонажами, и смогли бы приблизиться к себе настоящим.
Этот путь противоречит традициям театральных школ прошлого – вместо того чтобы идти от своего внутреннего «я» к персонажу, как это делалось раньше, человек панический старается отойти от «персонажа» (сделаем уступку этим клоунам, назовем его так) и приблизиться к тому существу, что прячется у него внутри. И вот это существо, этот «другой», пробуждающийся во время панической эйфории, и есть настоящее, живое, практически ничем не ограниченное создание, а не марионетка из лжи и скупых описаний драматурга. Эйфория «эфемерной паники» ведет к целостности, к высвобождению скрытых сил, к состоянию благодати.
Подводя итог, скажу: «панический» человек не прячется за другими персонажами, а пытается найти собственный способ самовыражения. Он не хочет быть лживым эксгибиционистом, он – поэт в состоянии транса, и когда мы говорим «поэт», мы имеем в виду не застольного рифмоплета, а гиганта мысли – творца.
Как вы воплощали этот манифест?
Я стал творить театральное действо, радикально отличающееся от всего, что было раньше. Зрители-актеры в нем должны были играть свою собственную драму, используя сокровенное внутреннее знание. Так начался для меня священный и почти исцеляющий театр. Очень быстро я обнаружил, что хотя мне удалось сильно поколебать традиционную форму, пространство и отношения между зрителями и актерами, мои изменения не коснулись времени. Я все еще цеплялся за идею, что спектакль должен быть отрепетирован и сыгран бесчисленное количество раз. В США только-только возникла концепция хэппенинга, а я у себя в Мексике уже изобрел то, что назвал эфемерной паникой. Суть заключалась в том, чтобы подготовить спектакль, который будет сыгран только один раз. В нем следовало использовать недолговечный реквизит: дым, фрукты, желатин, живых животных, а само действо должно было быть таким, чтобы его ни при каких условиях нельзя было повторить. В общем, я хотел, чтобы театр не пытался больше ловить и фиксировать, чтобы перестал тяготеть к неподвижности и смерти, а вернулся бы к тому, чем он был когда-то, к мимолетности, недолговечности, к уникальности и неповторимости каждого мгновения. Именно такой театр подобен жизни, ибо в жизни, как говорил Гераклит, никто не может дважды войти в одну и ту же реку. Поставить такое действо означает довести театр до грани, до пароксизма, до пика театральности.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу