– Как и тогда, когда ты боялся не аппендицита, но больницы?
– Именно, – отвечает он и добавляет: – Господи, какой же ты мерзкий.
* * *
Я пытаюсь убедить себя в том, что нам очень весело, но нет никаких сомнений в том, что режиссер чувствует себя осажденным в собственном доме, и временами, когда он особо остро чувствует, насколько безнадежно он тут заперт – вместе с чужаком, на двое суток! – это чувство находит свое выражение в небольших внезапных вспышках ярости.
– Ну, – говорит он, поднимая чашу двумя руками, – поздравляю с книгой!
– Спасибо. И тебя тоже.
– Да-да, я же так все время этого хотел, – смеется он. – Думал вот: кого же я могу заманить ее написать?
– Да, и как же я это сделаю? Я лучше сниму сначала пару фильмов.
– Ага, это была наживка, – смеется режиссер.
Он отставляет от себя чашу, и тут приходит время для моего маленького триумфа.
– Умм… – говорит он, ставя чашу на стол. – А это очень вкусно, кстати. Чем-то напоминает мисо. Очень вкусно, мастер! И, благодаря венчику, очень утонченно. Ну и чаша сама по себе тоже хороша, правда? Особенно мне нравится, что она зеленая. Чайная церемония… – Он как будто пробует слова на вкус, прежде чем переставить чашу на журнальном столике. – Слушай, я думаю, что ты должен купить мне такой наборчик за счет издательства. Потому что если мы, мужчины, что-то умеем хорошо, то это habits and rites [28], как в «Истории О». Так что я буду устраивать чайную церемонию до самой смерти… – говорит он и несколько мгновений удерживает мой взгляд, прежде чем закончить: – От какого-то ужасного вида рака.
Какое-то время мы сидим в гостиной, где темнота подступила к окнам, как будто ее на них выплеснули, и заменила вид отражением гостиной, который занимает теперь целый угол. Мебель отражается там привиденчески, а два белых ламповых абажура неясно светятся в темноте, как размытые кольца вокруг пары планет. Потом Триер замечает верхний лист с распечаткой моих вопросов, в которых центральные слова выделены желтым, а уже заданные вопросы вычеркнуты.
– Да черт бы тебя побрал! – восклицает он. – Мы же с места вообще не сдвинулись. Ты зачеркнул всего четыре вопроса!
– Да, но смотри, мы вообще-то вон куда уже дошли.
– Почему ты тогда пропускаешь вопросы?
– На этот ты уже отвечал, а тот был нерелевантен.
– Это ты откуда знаешь?
– Хочешь, я его задам?
– Нет, спасибо.
– Ты обещал, что напьешься и будешь откровенным. У тебя были девушки. Давай ты сейчас о них расскажешь.
– Не собираюсь я тебе ничего рассказывать, еще чего.
* * *
В истоки своей склонности дразнить других – как в фильмах, так и в общении – он тоже не собирается меня посвящать.
– Это не особо-то гламурно, – замечает он, но все-таки соглашается на вопрос о дразнилках, очевидно только потому, что альтернативы привлекают его еще меньше.
– Может быть, это потому, что в нашей семье всегда очень важно было спорить. Чтобы запустить разговор, иногда нужно было принимать гипотетические точки зрения. И в каком-то смысле я любой фильм тоже воспринимаю как приглашение к дебатам. Чтобы хорошенько кого-то поддразнить, нужно затронуть по-настоящему чувствительные места, и их я, кажется, хорошо умею находить. Я нажимаю на чувствительные точки зрителей или собеседников, иногда достаточно сильно.
– Что ты сам от этого получаешь?
– Ооооо! – стонет он. – Все эти что-где-когда вопросы! Вдруг тебе вообще принадлежат на них авторские права, а? Вот бы было хорошо. Представь только, что раньше журналистика заключалась в том, что люди что-то говорили , а потом ты придумал, что журналистика должна быть не про разговоры, а про вопросы .
– Ну вот, ты опять.
– Да, да… ДА!!! Что я сам от этого получаю? Ну, много всего, наверное. В каком-то смысле все сводится к тому, что я хочу, чтобы меня выносили, несмотря на мое плохое поведение. Если им с этим не справиться, тогда мне все равно.
– Получается, это своего рода тест на искренность чувств твоих близких.
– Ну да. Но когда я кого-то дразню, значит, я считаю, что они способны это выносить. В личной жизни я тоже саркастичен и невыносим, но на самом деле мне кажется, что когда я дразню людей – это выражение того, что я их принимаю и подпускаю поближе. – Какое-то время он сидит молча, разглядывая чай в чаше. – И я думаю… если уж меня хвалить, – говорит он наконец, – нужно признать, что я задираю перекладину во многих отношениях. И это тоже странное такое самобичевание с моей стороны, потому что гораздо проще было бы сказать: «Как же хорошо, что люди мне улыбаются», а не вести себя как идиот, только чтобы еще больше повысить ценность этих улыбок.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу






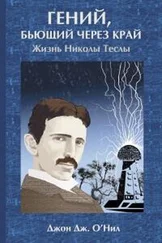


![Лора Гарнетт - Привычка гения [Как одна привычка может полностью изменить вашу работу и вашу жизнь] [litres]](/books/385616/lora-garnett-privychka-geniya-kak-odna-privychka-mozh-thumb.webp)


