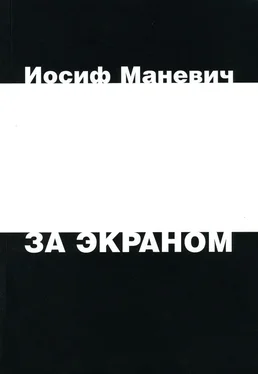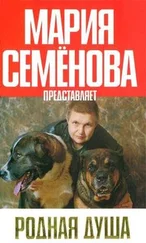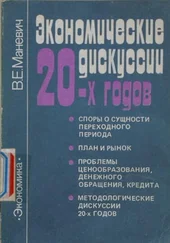Мои знакомые и родные обычно были предупреждены и с волнением ждали, когда голос Жози прозвучит в эфире – дойдет в Пятигорск и на Садовники, где его слушала Фира с родными.
Тексты первых перекличек не представляли бы интереса теперь, во времена телевидения, КВНов и программы «Время». Это были первые робкие шаги радиожурналистики. Вспомню лишь один – сейчас уже, может быть, забавный, а тогда почти трагический – эпизод. Благополучно закончив очередную перекличку, перед которой я, конечно, волновался, как актер перед премьерой, я облегченно вздохнул и гаркнул на всю Россию: «Аминь!»
Это была катастрофа. Из аппаратной прибежал бледный звуковик. Из горкома, парткома и ГПУ звонили. Вроде как я отпел… советскую власть. Кое-как замяли, я отделался выговором, но только благодаря тому, что по правилам микрофон должен был быть немедленно отключен. Да и времена были другие. Пройдет несколько лет, и мой коллега по работе Булгаков, закончив успешно праздничную радиопередачу с Красной площади, радостно вздохнет: «Финита ля комедия!» – и окажется в лагере… Больше я его не встречал.
Я недолго засорял эфир и, вслед за Успенским, поругавшимся с начальством, за компанию с ним покинул радио, променяв его на «Легкую индустрию». На память осталось лишь удостоверение НАРКОМПОТЕЛЯ о том, что я могу передавать бесплатно по телеграфу из любой точки Советского Союза пятьдесят слов в день, – да несколько статей в журнале «Говорит СССР», одна из которых, написанная в Днепропетровске, начиналась патетически: «Нет, не тиха больше украинская ночь»…
Легкая индустрия – не тяжелая, да и жизнь журналиста в ней повеселей и поразнообразней: тут и шерсть, и трикотаж, и фарфор, и стекло, и полиграфия, и дамское платье, и чулки, и спички, и даже кинофотопринадлежности, не говоря уже об индивидуальном пошиве платья, о джуте и целлулоиде, о каучуке, оптовой и розничной торговле, о самодеятельности на «Красной розе», о производстве сетей в Ивантеевке, где на заезжих корреспондентов работницы устраивали облавы.
Рассказывать о тамошней редакционной жизни, об этом типе журналистов нечего. Все те же знакомые по заседаниям, съездам и Дому печати лица. Только здесь я уже не занимался репортажем, а назывался децернентом – что это обозначало, я и сейчас не знаю, но писал я большие статьи, не менее двухсот строк: «стояки», «подвалы» с большими и крикливыми шапками, передовые и нечто вроде фельетонов.
Удивляюсь сейчас одному: как за три-четыре дня, проведенные в какой-либо отрасли промышленности, поговорив с директорами фабрик, плановиками, рабочими и начальниками управлений и трестов или проведя рейд по предприятиям, я выступал с разгромными статьями, порой сопровождающимися схемами, расчетами и фотографиями, – и ни разу по моим материалам не было существенных опровержений!
Большей частью признавали ошибки и делали вид, что исправляют их.
Иногда, правда, мной овладевала застенчивость, присущая мне с детства и трудно уживавшаяся с профессией журналиста. Да, я всегда стеснялся. Приступы застенчивости были странными. Так, в Севастополе в ту пору, когда мой папа был директором курорта и ездил на автомобиле «рено», он иногда брал меня с собой. Увидев же знакомых девочек, вместо того чтобы покрасоваться, я прятался, чтобы они не заметили меня в черном лакированном «рено».
Так вот, я три или четыре дня добивался приема у наркома заготовок Чернова, чтобы взять интервью о заготовке хлопка. Но, попав к нему в кабинет, я почему-то застеснялся, с трудом выдавил из себя пару вопросов, на которые мог ответить любой плановик его наркомата, и удалился, сопровождаемый его недоуменным и даже подозрительным взглядом.
С «Легкой индустрией» я распрощался тоже легко. Укатив в отпуск в Пятигорск, я, вместо положенного мне месяца, веселился в Кисловодске два с половиной и был крайне удивлен, когда по возращении мне сообщили, что я уволен. То есть буквально мне сказали следующее: я должен подать заявление и написать объяснительную записку, тогда меня зачислят вновь, – но я обиделся.
Семьи у меня уже не было, и я ушел на вольные хлеба – в газетах к тому времени меня знали.
Но, поблуждав по газетам, вернулся в журнал. Слова Сталина «техника в период реконструкции решает все» вызвали к жизни целую поросль журналов и газет, причем лучших для того времени. Сюда были брошены все силы. Пришли молодые журналисты – как тогда говорили, энтузиасты. Скоро «За индустриализацию» стала лучшей газетой, за ней шли «Легкая индустрия», «Техника» и обойма журналов. От слова «техника» рябило в глазах: «За овладение техникой», «Новости техники», «Техника – молодежи», «Сорена», что означало «социалистическая реконструкция и наука», «Техническое нормирование», «Фронт науки и техники», «За большевистскую технику»… Это далеко не полный список.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу