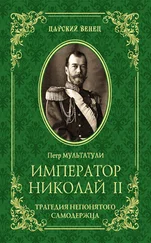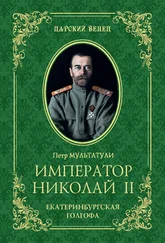« А куда вы сейчас пойдете ?»
« К матушке и к ребятишкам », – ответил батюшка.
« А как вас зовут ?» – поинтересовался цыган.
А теперь «внимание на экран!»: « В миру Петр, – ответил священник и глазом не моргнув , – а по сану – отец Александр ».
Вот и гадай после этого: кто перед тобой: монах-расстрига или священник-двоеженец!
Вот такие сценаристы, не имеющие элементарных знаний ни о войне, ни о русской истории, ни о нашем духовенстве, ни о нашей Вере, берутся снимать фильмы « на космические темы, космической же глупости », как говаривал профессор Преображенский.
Но по злой ли воле снимаются такие фильмы? Чаще всего нет.
Просто порвалась связующая нить, которая соединяла нас с ушедшей войной. Предыдущие поколения ее имели, нынешние – утратили. Вот смотришь сегодня современный сериал, например «Ментовские войны», и забываешь, что это фильм – настолько он правдиво и точно показывает систему современной милиции-полиции.
Почему? Да потому что автором сценария этого фильма является человек, большую часть жизни проработавший опером. Ему не надо ничего придумывать, он знает оперскую работу, что называется, изнутри.
То же самое некогда было и с режиссерами-фронтовиками. Г. Чухраю не надо было придумывать образ мысли и поведение солдата с передовой. Он прекрасно знал, что значил для солдата отпуск, свидание с матерью особенно в 1941–1942 годах. Чухрай сам прошел фронт, участвовал в десантных операциях, был тяжело ранен. Поэтому он жил, дышал жизнью своих невыдуманных героев, поэтому и картина его воспринималась как реальная жизнь.
Поэт-фронтовичка Ю. Друнина очень точно выразила эту духовную связь в своих стихах:
Я порою себя ощущаю связной
Между теми, кто жив
И кто отнят войной.
И хотя пятилетки бегут
Торопясь,
Все тесней эта связь,
Все прочней эта связь.
Сегодня эта связь почти полностью отсутствует в военном кинематографе. Режиссер не чувствует то время, а актер не чувствует своих героев. К. С. Станиславский утверждал: чтобы роль получалась максимально «живой» и интересной для зрителя, актер должен использовать свою наблюдательность и память, в том числе и эмоциональную (актер должен уметь вспомнить то или иное чувство для того, чтобы быть в состоянии снова его пережить).
А что делать сегодняшнему режиссеру, актерам, которым нечего «вспомнить» о войне? Таких людей в актерской среде нет уже из-за давности лет, как и нет больше воспоминаний, услышанных в детстве от родителей и дедов. Как может появиться чувство сопричастности актера с военной эпохой, если большинство из них сегодня вынуждены зарабатывать и нет времени погружаться в роль? А ведь для этого требуется прочтение массы литературы, просмотр документальной хроники, старых фильмов о войне, наконец.
Кроме того, начисто исчез институт научных консультантов, который в прошлые десятилетия играл большую роль при создании фильма, отвечая за соответствие постановочных сцен реальным историческим событиям. Помимо идеологической «обязаловки», которая, разумеется, никакого отношения к достоверности не имела, научный консультант как профессиональный историк давал соответствующие сведения о многих деталях повседневной жизни, о порядке ношения формы, орденов, об отдании чести, о нравах и обычаях армейской жизни той поры.
Сегодня это начисто отсутствует. О Великой Отечественной судят с позиции сегодняшнего дня. Так, например, почти во всех фильмах о войне есть постельные сцены. Причем они, по большой части, не несут никакой смысловой нагрузки, а сделаны так, для «развлечения» зрителя. Но любой, кто мало-мальски знаком с эпохой 40-х годов, знает, что люди того времени большей частью были целомудренными, они еще несли в себе духовные основы Православной русской цивилизации, которые полностью не смогла вытравить революция и большевизм.
Генерал-фронтовик М. П. Корабельников свидетельствовал: « Когда я пришел в армию, мне еще не было и двадцати, я еще никогда не любил – тогда люди взрослели позже. Все время я отдавал учебе и до сентября 1942 года даже не помышлял о любви. И это было типично для всей тогдашней молодежи. Только в двадцать один или в двадцать два года просыпались чувства. А кроме того… уж очень тяжело было на войне. Когда в сорок третьем – сорок четвертом мы стали наступать, в армию начали брать женщин, так что в каждом батальоне появлялись поварихи, парикмахерши, прачки… Но надежды на то, что какая-нибудь обратит внимание на простого солдата, почти не было ». [5]
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
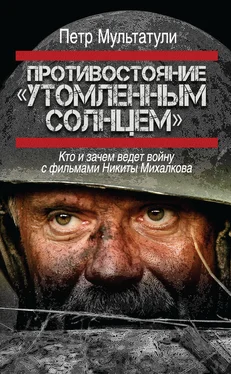

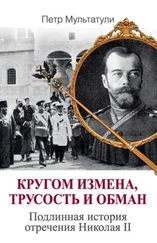
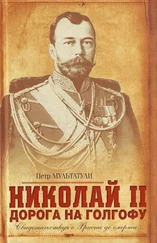



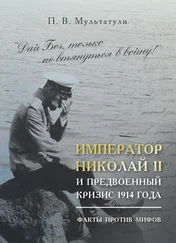
![Петр Мультатули - «Ледокол» для Наполеона [Лживый миф о «превентивной войне»]](/books/427799/petr-multatuli-ledokol-dlya-napoleona-lzhivyj-mi-thumb.webp)