Итак, в фильме сталкиваются два главных персонажа, олицетворяющих интеллигенцию и народ – научный работник Лиза из Санкт-Петербурга в исполнении Анны Михалковой и ушлая официантка Вика из Екатеринбурга в исполнении Яны Трояновой. Позиции эти в данном случае не равноценны. На мой взгляд, народный типаж выполняет здесь чисто инструментальную и подсвечивающую функцию, а в фокусе все же располагается типаж интеллигентки. И прежде всего мне лично весь фильм видится как постановка социального диагноза группе интеллигенции.
Дело происходит в середине 2000-х годов в Санкт-Петербурге. На экране в основном симпатичные образованные люди, научные работники. Это потомственная питерская интеллигенция – по сути, высший слой российской интеллигенции в классическом понимании. По возрасту дело идет к сорока годам или чуть переваливает за сорок. И вот именно этой группе Смирнова дает поистине беспощадную характеристику (видимо, слишком хорошо знает подобный круг). Можно даже назвать это эпикризом, который в результирующей части следует представить так: «Огонь уже потух, хотя дым еще идет иногда». На разборе этого эпикриза мы далее и сосредоточим свое внимание.
Работа без драйва и перспективы
Главная героиня работает этнографом в музее. И, надо сказать, профессиональная область подобрана весьма удачно. Ибо этнография занимается предельно отвлеченными и отдаленными объектами – в данном случае какими-то северными народами. Режиссера привлекает, по ее же собственным словам, эта откровенная вымороченность музейного мира в целом и показываемой кунсткамеры в особенности, где обнаруживается своего рода квинтэссенция интеллигентского слоя.
И каково же здесь главное наблюдение? Любимая некогда работа, судя по всему, наших героев уже не греет. Год за годом повторяется одно и то же, постепенно накапливается усталость, которая перерастает в безразличие. Когда-то один за другим, как положено, они защитили свои диссертации. А дальнейшей перспективы, увы, не вырисовывается.
Временами слышатся дежурные жалобы на какую-то партийную функционершу, которая гнобит порядочных людей. Но саму функционершу на экране мы не видим, это своего рода мифический персонаж. И дело не в ней, и не в бесхребетном директоре музея, всеобщем друге, который не может вытащить и продвинуть коллективное дело хотя бы куда-нибудь, а только пишет в никуда бесконечные просительные письма. Стенания про внешнее давление и про то, что «нам не дают работать», выглядят как ритуальные оправдания очевидной стагнации и отсутствия глубокого интереса к тому, что ты делаешь.
Собранные этнографические коллекции не разбираются годами. И характерно, что наши герои вообще не говорят о работе. Они «трындят» о чем угодно, кроме самой работы в ее профессиональной части. Могут пожаловаться на то, что их не пускают в какие-то поездки. Но на самом деле и ехать куда-то уже особо не хочется. Они, по сути, спят на работе, в том числе и в прямом смысле слова. Перед нами феномен, который в работе социолога Ирины Мерсияновой был назван «сплоченным бездействием» [50] Мерсиянова И.В., Чешкова А.Ф., Краснопольская И.И . Самоорганизация и проблемы формирования профессиональных сообществ в России. М.: Изд. дом ВШЭ, 2011.
.
Здесь не обнаруживается следов не только всепоглощающей, но даже сколь-либо напряженной интеллектуальной деятельности. Вполне возможно, когда-то такая деятельность была и глаза горели. Сейчас это, скорее, превратилось в привычку. Иногда отношение к работе перерастает в плохо скрываемое отвращение, как в коротком эпизоде с женщиной-архитектором, проявляющей откровенный снобизм по отношению к заказчику и всяческое нежелание с ним коммуницировать, хотя заказчик, судя по голосу, вполне приличный человек и вовсе не обязан знать профессиональные архитекторские заморочки (его показывают издали, и благодаря этому он превращается в обобщенного Заказчика).
В интеллигентской среде за долгие годы накоплены многочисленные знания. Но не очень понятно, кому и зачем они нужны. Да, конечно, есть идея сохранения и воспроизводства Культуры. Эта идея мощная и, несомненно, правильная, но слишком уж общая. И самих ее носителей, видимо, смущает то, что крайне трудно увидеть какие-то непосредственные и осязаемые результаты собственного труда. А хочется ведь понять, что именно ты сделал, пожать те самые плоды Культуры. А предъявить, похоже, по большому счету нечего.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу


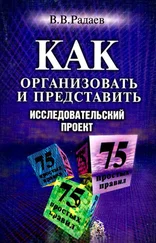

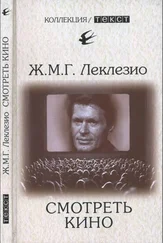


![Данила Кузнецов - Язык кино. Как понимать кино и получать удовольствие от просмотра [litres]](/books/415652/danila-kuznecov-yazyk-kino-kak-ponimat-kino-i-pol-thumb.webp)




