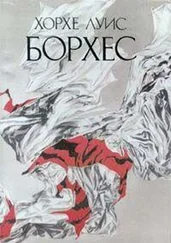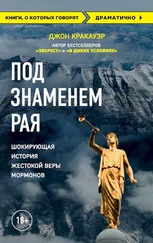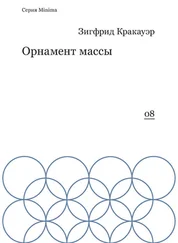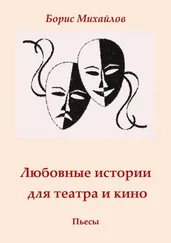С другой стороны, "Безрадостный переулок" явно тяготеет к мелодраме. Теоретически Пабст мог прибегнуть к ней, чтобы облегчить зрителю усвоение его реализма. Однако ярко выраженный интерес Пабста к мелодраматическим мотивам указывает на то, что использует он их в фильме не только из практических соображений. Затянутый эпизод с Астой Нильсен дискредитирует реалистические устремления Пабста, и в этом эпизоде проглядывает слепая влюбленность Пабста в свою ходульную героиню. Мелодрама не обязательно лишает реализм его внутренней весомости — это доказал в свое время Штрогейм своей знаменитой "Алчностью" (1924), однако в "Безрадостном переулке" мелодрама как раз посрамляет реализм. В самый напряженный момент, когда, согласно обещаниям Пабста, Румфорт с дочерью должны пасть жертвами инфляции, на экране словно deus ex machina возникает неотразимый лейтенант американского общества Красного Креста и незамедлительно приносит счастье обоим. Пабст ощущал в себе достаточно сил, чтобы изобразить мерзость социальной нищеты, но ему хотелось помешать зрителю сделать выводы на основании его наблюдений. Приверженность Пабста к мелодраме скрадывала значительность его реализма — поэтому публика, еще не привыкшая к активной кинокамере, свободно вбирающей в себя действительность, принимала этот реализм как нечто само собой разумеющееся.
После пустяковой картины "С любовью не шутят" (1926) Пабст поставил фильм "Тайны одной души" (1926) — тщательный психоаналитический отчет, снятый при помощи сотрудников Фрейда Ганса Сакса и Карла Абрахама. Профессор химии (Вернер Краус) узнает, что племянник его супруги, привлекательный молодой человек, возвращается из Индии. Когда-то в детстве всех троих связывала дружба. Взволнованный этим известием и рядом других происшествий, профессор видит мучительный сон, где воспоминания о женином племяннике мешаются с запутанными сценами, изобличающими скрытое желание профессора иметь ребенка. Этот сон достигает высшего напряжения в тот момент, когда профессор пытается зарезать свою супругу. На следующий день профессор в необъяснимом страхе не смеет притронуться к ножу и начинает держаться настолько странно, что его жена с племянником оказываются не на шутку встревоженными. Отчаяние профессора доходит до предела, когда, оставшись с женой наедине, он с трудом удерживается от искушения совершить убийство, которое привиделось ему во сне. Он бежит из дому к своей матери. Там его консультирует врач-психоаналитик, который просит профессора остаться под родительским кровом на протяжении всего лечения.
Затем фильм превращается в серию сеансов, где профессор рассказывает о себе: обрывки его сновидения чередуются с различными воспоминаниями, в кадре время от времени показывается врач-психоаналитик, слушающий рассказчика или объясняющий его исповедь. Под руководством врача загадочная и лоскутная картина признаний постепенно выстраивается в логическое целое. В юности профессор ревновал свою будущую жену к кузену, к которому та испытывала явный интерес; ревность породила в душе профессора комплекс неполноценности, из-за которого, уже будучи женатым человеком, он стал жертвой своеобразной психологической ущербности. Эта ущемленность в свой черед развила в нем сознание вины, которое должно было обязательно проявиться в безотчетном поступке. Курс лечения заканчивается душевным выздоровлением профессора — отныне он понимает, какие подсознательные силы держали его душу. Он счастливо возвращается в лоно семьи.
Сходство между этим фильмом и картиной Робисона "Тени" (1922) бросается в глаза [99]. В центре того и другого стоит психически неуравновешенный человек, которого излечивают при помощи психоанализа или Чего-то в этом роде; оба фильма подчеркивают, что до исцеления герой вел себя как неполноценная, незрелая личность. Подобно буйному графу из "Теней", тихий профессор у Пабста делает тот жест, посредством которого большинство мужчин на немецком экране выражали свою душевную незрелость — от своего кошмарного сновидения он освобождается в тот момент, когда зарывается головой в материнский подол. Другая сцена еще более наглядно иллюстрирует его болезненное поведение. Нарезав мясо мелкими кусочками, его мать следит за тем, как он вылавливает их ложкой, которой мать заменила опасный нож, и любовно не спускает с профессора глаз, точно он малое, беспомощное дитя. Однако "Тайны души" Пабста существенно отличаются от "Теней" одним — пренебрежением к значительности "возвращения к родному очагу". Если выразительная кинофантазия Робисона отличалась нервным напряжением, свидетельствующим о жизненной важности предлагаемой фильмом модели поведения, в картине Пабста чувствуется холодок врачебного отчета о случае из психоаналитической практики. "Тайны одной души" были названы "умным сплавом художественного и документального фильмов". Стремясь к документальной объективности, камера Пабста жадно вбирает в себя любой жизненно достоверный материал, но ни один его кадр не претендует на символическую многозначность, ни один монтажный переход не убеждает в том, что душевное смятение профессора отражает, как в зеркале, психологическую неуравновешенность большинства немцев.
Читать дальше