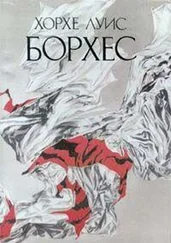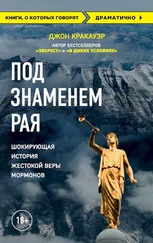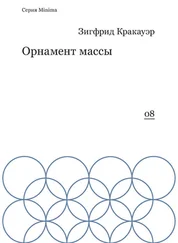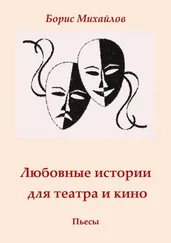В "Скрипаче из Флоренции" Пауля Циннера (1926), другом фильме о юношестве, Элизабет Бергнер играет девушку-подростка, ревнующую отца к ее молодой мачехе. Крупные планы передают мельчайшие жесты и действия актрисы, чтобы убедить зрителя в том, что они — симптомы ее внутреннего состояния. В целом фильм напоминал психоаналитический сеанс, который выглядел особенно интересным благодаря мальчишеской внешности Бергнер. Разгуливая по итальянским дорогам в костюме подростка, она оказалась чем-то средним между девушкой и юношей. Созданный ею образ женоподобного юноши нашел широкий отклик в Германии, который, вероятно, усиливался тем же параличом коллективной души. Известно, что психологическая неуравновешенность и сексуальная амбивалентность тесно связаны друг с другом. В своих других фильмах образ женственного мальчика, созданный Бергнер, уступил место психологически сложному характеру женщины-ребенка — последний был не так многозначен, но в картинах "Фрейлейн Эльза" (1929) и "Ариана" (1931) Бергнер довела его до совершенства.
Фильмы о юношестве стали выходить сразу же после стабилизации марки и с той поры не теряли популярности на протяжении всей республиканской эры. Поэтому вполне правомерно объяснять их появление параличом психологических тенденций, обращенных в прошлое. Поскольку эти тенденции не могли утвердиться при республиканской "системе", они пытались найти отдушину в том, что возвращались в своем воображении к поре, предшествующей становлению человека. Немцы времен Веймарской республики тосковали по молодости — этой тоской и объясняется та подлинная нежность, с которой в их фильмах о юношестве изображались психологические конфликты подрастающего поколения. (Хотя при Гитлере реакционная тенденция окрепла, в нацистских фильмах постоянно всплывала "молодежная тема". Правда, в них была не тоска по старым добрым временам, а желание прославить молодежь в качестве оплота нацистского мира.)
В изображении целей бунта фильмы о молодежи ушли дальше "уличных картин". Они не ограничивались обыкновенным сочувствием мятежным подросткам, а откровенно выражали свою неприязнь к тиранствующим взрослым и насаждаемому ими авторитарному порядку. Авторитарная власть, объявляющая себя всемогущей, подвергалась в этих лентах таким яростным нападкам, каких раньше никогда не наблюдалось. Это отрицание абсолютной авторитарности подразумевало по крайней мере два различных смысла. Во-первых, в молодежных фильмах его представляют авторитарно настроенные взрослые. Таково, во всяком случае, их отношение к подросткам, скажем, в "Любви старшеклассника". Изобличая взрослых и в то же время предсказывая их психологическое перерождение, картины о юношестве принимают на себя функцию "уличных" фильмов: они выражают недовольство республиканским режимом и предсказывают его разложение. Во-вторых, отрицание неограниченной авторитарности означает только отрицание и ничего больше.
Однако фильмы о юношестве напоминали сновидения. Подобно прежним экспрессионистским фильмам о тиранах, которые представляли собой схожие со сновидением проекции потрясенной души, картины о юношестве подтверждают свою приверженность к авторитарному поведению именно потому, что подчеркивают бунт против него. Молодые бунтари нередко превращаются в старых тиранов, жестокость которых оказывается в прямой пропорциональной зависимости от их прежней мятежности. Примечательно, что ни один из этих фильмов не предлагал своего определения свободы, которое уничтожило бы парадоксальную взаимосвязь тирана и мятежника.
Ярче других отразил эти процессы один фильм — "Метрополис" Ланга. В нем парализованная коллективная душа с необычайной внятностью словно разговаривала во сне. И это замечание не просто метафора: благодаря счастливому сочетанию эмоциональной впечатлительности с психологической растерянностью бессменная сценаристка Ланга Tea фон Гарбоу не только чутко откликалась на все подводные течения времени, но беспорядочно переносила в свои сценарии все, что возникало в ее воображении. "Метрополис" насыщен скрытым содержанием, которое тайком пересекало границы сознания.
Фредер, сын промышленного магната, во власти которого находится "Метрополис", является настоящим мятежником: он бунтует против своего отца и присоединяется к рабочим из Нижнего города. Там он сразу же становится ближайшим сподвижником Марии, великой утешительницы угнетенных. Эта девушка, больше напоминающая святую, чем агитатора-социалиста, произносит перед рабочими речь, где заявляет, что свободу они могут обрести при одном условии — их сердце должно быть посредником между действием и помыслом. Мария призывает своих слушателей к терпению: скоро придет этот посредник. Промышленный магнат, тайком пробравшийся на собрание, считает разговоры о сердце такими опасными, что поручает изобретателю создать робот, как две капли воды похожий на Марию. Робот-Мария должен спровоцировать забастовку и дать промышленнику возможность сокрушить мятежный дух рабочих. Не первым из немецких экранных тиранов он прибегает к такому методу — Гомункулус применял его гораздо раньше. Вдохновленные роботом, рабочие уничтожают своих мучителей — машины и освобождают гигантские запасы воды, которые грозят затопить их вместе с детьми. Не помоги им в последний момент Фредер и настоящая Мария, катастрофа была бы неминуема. Конечно, этот взрыв стихийных сил сделал больше, чем жалкое восстание, которое замышлял устроить промышленный магнат. В финальной сцене он стоит между Фредером и Марией, к которым приближаются рабочие вместе с их идейным вождем. По просьбе Фредера его отец пожимает руку мастеру, и Мария с радостью освящает этот символический союз труда и капитала.
Читать дальше