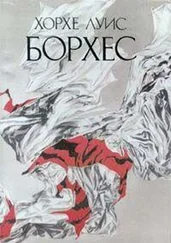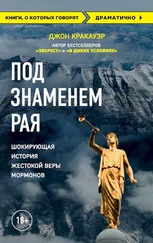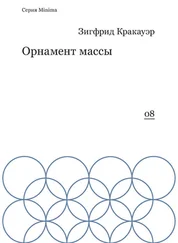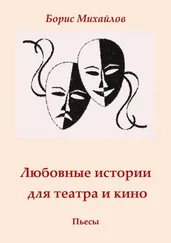У Фридриха на экране есть две главные добродетели. Прежде всего, он отец своего народа, мудрый старейшина, усмиряющий самодержавным жезлом беззаконие, способствующий всеобщему благоденствию и защищающий бедняков от лихоимства богачей. В то же самое время он — национальный герой, который благодаря победам в нескольких войнах превратил крошечную Пруссию в могущественное государство.
Всей своей конструкцией фильм явно внушает зрителю мысль о том, что новый Фридрих явится не только прекрасной сывороткой против вируса социализма, но и претворит в жизнь немецкие национальные чаяния, Для того чтобы укрепить эмоциональные узы между публикой и этим столь своевременным деятелем, УФА останавливает пристальное внимание на душевных мучениях Фридриха. В эпизодах Семилетней войны он выступает трагическим гением, который ввязался в заведомо безнадежную борьбу и был вероломно оставлен самыми верными соратниками. Больше того, фильм непрерывно показывает военные парады и победные сражения. Подобное зрелище должно было вдохновить патриотов, удрученных недавно проигранной войной, разоружением и ненавистной смутой под названием демократия.
При постановке фильма двум тысячам статистов было велено приветствовать только что коронованного монарха во дворе берлинского Старого дворца. Когда он появился на балконе при всех державных регалиях, в толпе поднялось такое ликование, какого от нее вовсе и не требовал режиссер. За несколько лет настряпали огромное количество подобных фильмов; последние шли ужо при Гитлере. Независимо от того, действовал ли в них Фридрих — бунтующий юнец, очаровательный владелец дворца Сан-Суси или "Старый Фриц", — все они так или иначе шли торной дорожкой первого фильма о Фридрихе. Во всех этих картинах, кроме одной, монарха играл Отто Гебюр [75]. Наверное, правильнее сказать так: он его и воскресил. Играл ли тот на флейте, пронизывал ли огромными сверкающими глазами иноземного посла, скакал на белом коне во главе своих войск или согбенный, в грязном мундире расхаживал, опираясь на костыль, среди своих полководцев — впечатление было такое, точно на экране живой Фридрих. Так, по крайней мере, продолжалось до 1930 года, пока звучный театральный голос актера не вступил в противоречие с его внешним обликом. В конце двадцатых годов Вернер Хегеман опубликовал монографию о Фридрихе Великом, на которую набросились все националисты: она, дескать, чернит нынешнюю легенду о Фридрихе. И хотя многие левые интеллигенты поддержали Хегемана, "подлинный" Фридрих, которого он так старательно "откопал" в прошлом, не сумел сместить с трона иконописного самозванца. Любая легенда, неуязвимая для доводов рассудка, поддерживается, очевидно, сильными массовыми желаниями. Лже-Фридрих несомненно отвечал психологическим настроениям, распространенным среди немцев. Это и определяет специфическую ценность фильмов о Фридрихе Великом, точнее, ценность законченной социально-психологической модели, которую навязывали немцам эти фильмы.
Через всю серию "Фридрихов" четкой линией проходила психологическая эволюция прусского короля — от бунта юного кронпринца к раскаянию и покорности. Эта тема, вернее, комплекс тем, немцам знакомы издавна. Еще в "Принце Гомбургском" Клейст разрабатывал этот конфликт между индивидуальным моральным правом на неподчинение и моральным долгом подчиниться авторитету государственной власти. Кроме того, по примеру "Пробуждения весны" Ведекинда, несколько ранних экспрессионистских драм защищали бунт сына против отца, и примерно в то же самое время целое поколение юных немцев восставало против традиционного уклада жизни в форме идеалистического "Движения молодых" [76]. Подчеркивая перерастание бунта в раболепство, фильмы о Фридрихе Великом отвечали задачам своего времени. Послевоенная ситуация сложилась так, что массы не были полностью готовы к тому, чтобы безоговорочно поверить в необходимость тоталитарной власти. Поэтому все фильмы о Фридрихе протаскивали генеральную идею обиняками. Поначалу в них, казалось бы, поощрялось бунтарское, если не революционное, поведение кронпринца, чтобы расположить к себе растерянные немецкие умы, но это было откровенной уловкой. Это поведение являлось первой ступенью эволюции, которая вела к полному подчинению. Сыновний бунт, подготавливавший в экспрессионистских драмах появление "нового человека" [77], служил здесь лишь возвеличению отцовского деспотизма. Бунт в этих фильмах был как бы куколкой, из которой вылуплялся диктатор, анархия же поощрялась в них постольку, поскольку она делала притягательной тоталитарную власть. Эти фильмы предлагали свое решение дилеммы — хаос или тирания, — превратив саму дилемму в эволюционный процесс. Одной из естественных стадий его был бунт. Узаконивание бунта, несомненно, способствовало затягиванию старой раны, нанесенной неудачной буржуазной революцией, призрак которой особенно в ту пору волновал коллективную Душу. Бунт, произведенный в системе социальной жизни, мог лишь растравить эту незаживающую рану. То, что предсказывал экран, обернулось явью. В послевоенный период "Движение молодых" постепенно превратилось в официально учрежденную организацию, которая скоро распалась; часть ее поглотили разные политические и религиозные общества. И словно для того чтобы продемонстрировать свое инстинктивное желание разделаться с болезненным образом революции, многим рьяным участникам "Движения молодых" пришлось присоединиться к марширующим нацистским колоннам.
Читать дальше